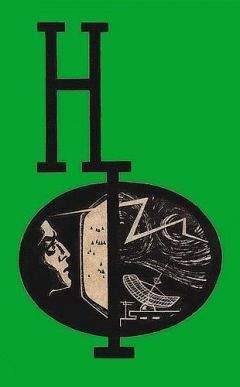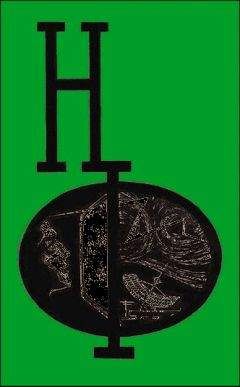Урсула Ле Гуин - Дело о Сеггри
С Итту они всегда были обходительны – не то что с нами, девочками. Если видели, как мы заговариваем с ним, тут же раздавался строгий окрик: идите, мол, работайте, нечего приставать к мальчику, оставьте его в покое! Когда мы проявляли явное непослушание – Итту и я пробирались, к примеру, к Соленому ручью, чтобы вместе поездить там верхом, или же просто прятались в нашем старом местечке для игр ниже по течению речки и болтали там всласть, – Итту встречали суровым взглядом с немым укором, меня же наказывали по-настоящему, заключением на сутки в подвал старой ткацкой фабрики, который служил в нашей деревушке тюрьмой. В следующий раз – уже на двое суток, а когда нас застукали вдвоем в третий раз, меня заперли в подвал аж на десять дней. Девушка по имени Ферск раз в день приносила мне поесть и попить, удостоверялась, что я не больна, но ни разу не заговорила со мной. Именно так наказывают людей в нашей деревне. Под вечер до меня доносились с улицы голоса детей. Смеркалось, и я засыпала. Дни напролет мне нечем было заняться, никакого дела, даже не думалось ни о чем, кроме как о бесчестии и позоре, которые я заслужила, поправ доверие взрослых, да еще о несправедливости – меня наказывают, а Итту почему-то нет.
Выйдя оттуда, я почувствовала в себе перемены. Как будто, пока я сидела взаперти, во мне самой захлопнулась какая-то дверка.
Теперь во время трапез в материнском доме нас с Итту старались усадить подальше друг от друга. Какое-то время мы с ним даже не разговаривали. Я вернулась в школу и к своей работе и знать не знала, чем Итту заполняет свое время. Я даже не думала об этом. До его дня рождения оставалось всего пятьдесят дней.
Однажды вечером, ложась спать, я обнаружила под подушкой записку: «У запруды севодн ночь». Итту не умел писать грамотно, а то, что все же умел, – это благодаря мне, я тайком обучала его. Я и злилась, и трусила, но, подождав, пока все в доме уснули, поднялась, прокралась наружу, в ветреную звездную ночь, и помчалась к запруде. Был уже самый конец сухого сезона, и речка изрядно обмелела. Итту уже сидел там, обхватив руками колени – крохотная тень у самой кромки воды на бледном фоне растрескавшейся глины.
Первое, что я сказала ему:
– Ты хочешь, чтобы меня снова посадили в тюрьму? И теперь уже на целых тридцать дней?
– Но ведь меня собираются запереть лет на пятьдесят, – ответил Итту, глядя в сторону.
– Ну и что ты теперь хочешь от меня? Ведь так и должно быть! Ты мужчина. Ты должен делать то, что делают все мужчины. К тому же никто не запрет тебя под замок, ты будешь участвовать в играх и приезжать в город на службу, и все такое. Ты даже представить себе не можешь, каково это – сидеть под замком!
– Я хочу уехать в Серраду, – выдохнул Итту и блеснул глазами. – На коровах мы можем добраться до автобусной станции в Реданге. Я скопил денег, у меня есть двадцать три медяка, мы купим билеты до Серрады. Наши коровы сами смогут вернуться домой, если их не связать.
– А что же ты намерен делать в Серраде? – спросила я не без иронии, но с любопытством. Никто из нашей деревни еще не бывал в столице.
– Там есть люди из Эккамены, – сказал Итту.
– Из Экумены, – поправила я. – Ну и что из того?
– Они могли бы забрать меня к себе.
Я почувствовала себя как-то странно, когда он сказал это. Я все еще злилась и презирала его, но во мне уже темной водой разливалась жалость.
– Зачем им это? С какой стати они станут разговаривать с каким-то маленьким мальчиком? Как ты найдешь их там? Двадцать три медяка, этого мало. Путь до Серрады далек. Все это дурацкая затея. Ты не сможешь сделать это.
– Я думал, что ты поедешь со мной, – сказал Итту. Голос его смягчился и уже не дрожал.
– С какой стати мне участвовать в твоей дурацкой затее? – бросила я раздраженно.
– Ладно, – сказал он. – Но ты ведь не выдашь меня? Обещаешь?
– Не выдам, – ответила я. – Но ты не можешь сбежать, Итту. Не можешь. Это было бы… было бы таким бесчестьем.
На сей раз при ответе его голос дрогнул.
– Это волнует меня меньше всего, – сказал он. – Мне нет дела до чести. Я хочу быть свободным!
Мы прослезились. Я села рядышком, мы прислонились друг к другу, как прежде, и немного поплакали – совсем немного, мы не очень-то любили плакать.
– Ты не можешь так поступить, – шепнула я. – Это не сработает.
Он кивнул, соглашаясь со мной и моей мудростью.
– В Замке не так уж плохо, – сказала я.
Спустя минуту он слегка отстранился.
– Мы будем видеться, – сказала я.
– Когда? – спросил он.
– На играх. Я увижу тебя там. Спорим, ты станешь лучшим наездником и мастером вольтижировки. Я уверена, что ты победишь во всех играх и станешь Великим Чемпионом.
Итту принужденно кивнул. Он знал, да и я знала, что я предала нашу любовь и свое первородство. И у него не оставалось больше надежды.
Это был последний случай, когда мы говорили с ним наедине, и один из последних, когда мы вообще разговаривали.
Итту бежал спустя дней десять на ездовой корове в направлении на Реданг. Его без труда догнали и вернули домой еще до наступления ночи. Неизвестно, считал ли он меня предательницей. Мне было так стыдно за то, что я не бежала с ним вместе, что я уклонялась от встречи наедине. Я держалась поодаль, и теперь взрослым не было нужды отгонять меня. Итту тоже не сделал никакой попытки поговорить со мной.
Я вступала в половую зрелость, и мое первое кровотечение случилось ночью, как раз накануне дня рождения Итту. В деревнях вроде нашей женщине в период месячных возбраняется подходить близко к воротам Замка, поэтому, когда Итту становился мужчиной, я стояла далеко позади вместе с еще несколькими девочками и женщинами и мало что смогла увидеть из церемонии. Я стояла молча, пока все пели, потупив взгляд, разглядывая землю и свои новые сандалии, и пальцы ног в сандалиях, и ощущала тупую боль внизу живота и тайный ток крови, и лелеяла свое горе. Я уже тогда знала, что это горе останется со мною на всю мою жизнь.
Итту вошел, и ворота закрылись.
Он стал Юным Чемпионом по вольтижировке и в течение двух лет, когда ему исполнялось восемнадцать и девятнадцать, приезжал несколько раз на службу в нашу деревню, но я так ни разу и не повидалась с ним. Одна из моих подруг приходила к нему на сеанс и после пыталась рассказать мне, как хорош он был в сексе, полагая, что мне будет приятно услышать это, но я грубо оборвала ее и ушла прочь в слепой ярости, которую ни она, ни я не сумели бы объяснить.
Когда Итту исполнилось двадцать, его продали в один из Замков на восточном побережье. После того, как у меня родилась дочь, я послала ему письмо, писала и потом еще несколько раз, но он не ответил ни разу.