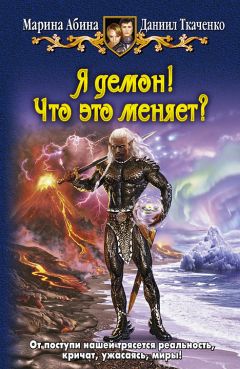Юлия Барановская - Мгла
Нечто подобное я испытывала к своей семье, но никогда доселе не дрожала моя душа от переполняющего её восторга, как трепетала она от взглядов золотисто-карих и лазурных глаз.
— Вира?.. Вира, ты в порядке? — Взволнованно вопрошала сестра, заглядывая в мое побледневшее лицо. Голос её доносился до меня словно издалека, разбиваясь на отдельные звуки, с трудом складывающиеся в знакомые слова.
— Д - да… — Пролепетала я, а в следующий миг меня накрыла милосердная тьма.
Глава 3
Сказавшись больной, следующие три дня я провела в своей комнате. Завернувшись в кружевную шаль, стояла у окна, пытаясь унять бурю, бушевавшую в моей душе. Мне было плохо. Я изнывала от необъяснимой тоски. Душа разрывалась от незнакомых, неведомых прежде чувств. Не находя себе места, я то приникала лицом к стеклу, то начинала метаться по своей комнате. Голова кружилась, перед глазами все плыло. Сердце то замирало, то пускалось в пляс, будто насмехаясь над тщетными попытками побороть внезапно пробудившиеся чувства.
«Это не правильно… недостойно… предательство своей семьи», — стыдила себя моя милость, но сердце, глупое, неразумное сердце дрожало, разливая болезненную нежность по венам.
Хотелось отбросить прочь тонкое кружево и, миновав коридор, ворваться в их комнаты. Подойти к ним, коснуться, ощутить тепло сильных тел. Я почти не сомневалась в совершенной гладкости обжигающей кожи Светоча, равно как не вызывало сомнений и то, что кожа рыжеволосого графа окажется успокаивающе теплой, бархатистой. Их образы были почти материальны.
Казалось, протяни руку — и пальцы пробегут по золотистым вихрам темноглазого лорда, а я затеряюсь в карих, наполненных светом глазах…
Против воли мысли мои вновь и вновь возвращались к незваным гостям, вспоминая красивые лица, звучные голоса, жесты, движения, мимику.
И сердце дрожало от страха и нежности.
За окном хмурилось небо, затянутое серой пеленой туч, а мне больше всего на свете хотелось сказать миру, что у беловолосого лорда самая чудесная в мире улыбка. Наверное, состояние моё в эти дни как никогда приблизилось к безумию. Впрочем, даже эта участь казалась более завидной, нежели бесконечное метание меж сердцем и долгом. Я знала, я слышала, что они враги, и прибытие их не принесёт ничего кроме горечи и боли. А сердце, неразумное сердце шептало, что не могут причинить вред те, кто наполнил его биение смыслом.
На рассвете четвертого дня, вместе с первыми лучами солнца в комнату беззвучно вошла баронесса Одетта де Элер, и жестом отослав приставленную ко мне служанку, остановилась рядом, положив руку на мое плечо.
Почувствовав прикосновение пахнущей мятным маслом ладони, последние сутки почти не покидавшая кресла я, встрепенулась, впервые заметив её присутствие, а почувствовавшая мой взгляд баронесса спросила, кивком указав на наборный витраж, приковавший мой взор в этот утренний час:
— Скажи, знаешь ли ты, что изображено на витраже, что скрывает тебя от рассвета?
Признаться, вопрос позабавил. Витраж, закрывающий меня от остального мира, вызывал искренний страх у Элоизы… и будто магнитом притягивал меня с того самого мига, как начинались мои затуманенные страхом воспоминания. За прошедшие годы сияющий в свете первых лучей витраж, скрывающий за собой и лес, и горы, и поднимающиеся над ними солнце был изучен до последней, самой незначительной детали, представая пред внутренним взором и в самые темные ночи. Среди синей глади наборных стекол сияла белоснежными одеяниями хрупкая девичья фигура, озаренная светом огненного шара солнца, будто в ознобе обнимающая себя за хрупкие плечи, на изгиб которых снежной волной ниспадала пена белого покрова, венчавшего её голову. А внизу, там, где синь верхних стекол незаметно обращалась во тьму непогожей ночи, простирали руки четыре фигуры в развевающихся на ветру балахонах, протягивая длани к печальной деве.
Не укрылось моё недоумение и от печально улыбнувшейся матери.
— Не то, что изображено на этих стеклах, но то, что скрывает история. Давным — давно, когда этот мир был чист и безгрешен им правили богиня Эвир и три её брата. То были века спокойствия и благоденствия, край наш процветал, хранимый мудрыми богами. Но, не знавшие горя и бедствий, люди не знали и страха пред тьмой, сгубившей вечно юную богиню. А братья её, разрываемые горем, отреклись от мира, погубившего их сестру, и ушли следом за той, без кого их жизнь была лишена всякого смысла, обрекая оставленных без божьего благословления смертных на ужасающие муки. Но умирающая богиня не смогла видеть, как погибает всё, что она любила и явила свой дух, остановив разрушение и уведя за собой обезумевших в жажде смерти братьев. Так, наш мир остался без богов, но с надеждой лучшую жизнь. Уходя, и Эвир, и движимые раскаяньем боги оставили людям по камню, порождению своей крови, заточенных в земные оправы. Алмаз из крови старшего засверкал семигранной подвеской, рубин — воплощение среднего был заточён в четырехгранный кулон. Сапфир цвета ночи увенчал перстень, а его близнец, вобравший в себя предутренний сумрак — кольцо, хранить которое было поручено твоему далекому предку в начало наших времен. За него убивали, пытали и объявляли войну, но, памятуя о клятве, первые бароны де Элер берегли его, без сомнений бросая свои жизни за его сохранность, ибо уходя, богиня предрекла страшные муки всего мира, если кольцо покинет земли нашего рода. Оно переходило от матери к дочери, чтобы однажды увенчать твою руку. Я всё ещё не осознала значение её слов, а средний палец правой руки уже обожгло металлом кольца, являющегося отражением того, что сверкало на руке погибшей богини. — Храни его, как хранили твои предки, дочь моя. И помни, не одна ноша не будет чрезмерна, если она ложится на плечи того, кому принадлежала задолго до его рождения.
— Если существует кольцо, существуют и другие символы? — Спросила я, рассматривая знакомые до последнего изгиба украшения, выбивающиеся из тьмы балахонов.
— Кто знает. Но, говорят, что в день, когда повстречаются все символы ушедших богов, мир затопят реки крови и сгорит всё живое на земле и в воде. Но есть безумцы, ищущие эти знаки, уверенные, что изменят мир к лучшему. Именно из — за них, считающих, что собрав четыре камня обретут силу ушедших богов…
— А пятый? — Обратив внимание на крайнюю слева фигуру, сверкающую медальоном с розовым камнем посередине, спросила я.
— А пятый пусть останется на совести мастера, создавшего этот прекрасный витраж. А теперь отдыхай, хранительница нашего рода. И… возвращайся, мы очень скучаем. — Коснувшись моего лба едва ощутимым поцелуем, вздохнула матушка, и вышла, уже не видя, как бегут по моему лицу слезы, тихо падающие на темный камень кольца — единственного свидетеля душевной боли, разрывающей мое существо.