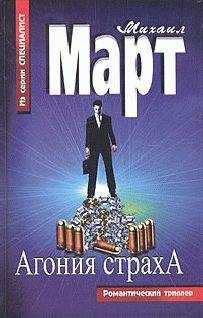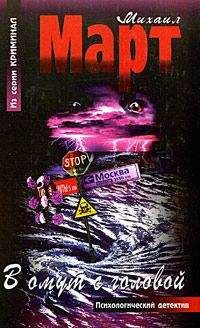Джин Вульф - Пыточных дел мастер
Я поймал ее запястье, пожалуй, сжав его сильнее, чем следовало, и она хотела было вцепиться ногтями мне в лицо — точно так же порой, не в силах больше вынести мыслей о заточении и боли, делала Текла. Я оттолкнул ее, и на сей раз за ее спиною не оказалось кресла. Агия ударилась головою о стену — и, хотя ее пышные волосы должны были смягчить удар, звук вышел резким, будто это каменщик ударил по кирпичу молотком. Лишившись сил, сползла она по стене вниз и опустилась на солому. Никогда не подумал бы, что Агия способна плакать, но все же она заплакала.
— Что она сделала? — спросил Агилюс, и голос его не выражал ничего, кроме любопытства.
— Ты, без сомнения, видел и сам. Она хотела залезть в мою ташку. — Я выгреб все оставшиеся монеты из кармашка, в котором хранил деньги: два медных орихалька и семь аэсов. — Быть может, хотела украсть письмо к архону Тракса. Однажды я упоминал о нем при ней, однако ношу его не здесь.
— Нет, ей наверняка нужны были деньги. Меня-то здесь кормят, а вот она, должно быть, жутко голодна.
Я поднял Агию, сунул ей в руки разорванное платье и вывел ее в коридор. Она еще не вполне пришла в себя, но, стоило дать ей орихальк, швырнула его на пол и плюнула на него.
Вернувшись в камеру, я застал Агилюса сидящим скрестив ноги и прислонившись спиною к стене.
— Только не спрашивай о ней меня, — сказал он. — Все твои подозрения верны — этого тебе хватит? Завтра я умру, а она выйдет замуж за того старика, что положил на нее глаз, или еще за кого-нибудь. Чем скорее она это сделает, тем лучше. Раньше я этому был помехой, а теперь меня не станет…
— Да, завтра ты умрешь, — сказал я. — Я как раз хотел поговорить об этом. Тебе все равно, как будешь выглядеть на эшафоте?
Он опустил взгляд к своим рукам, мягким и тонким, лежавшим на коленях в луче солнечного света.
— Нет. Она может прийти. Надеюсь, что не придет, однако — нет, мне не все равно.
Тогда я (как меня учили) велел ему с утра есть поменьше, чтобы не стошнило, когда придет время, и загодя опорожнить мочевой пузырь, расслабляющийся при ударе. Вдобавок я выложил ему о порядке процедуры всю ту выдумку, что обычно рассказывают приговоренным, чтобы удар оказался для них неожиданным — это делается для того, чтобы человек испытал перед смертью хоть чуточку меньше страха. Я не знал, поверил ли он мне, но надеялся на это — если и существует на свете ложь, праведная пред очами Панкреатора, моя была именно такова.
Покинув камеру, я не нашел на полу своего орихалька. На том месте, куда он упал — и, несомненно, ребром той монеты — на грязных камнях было нацарапано что-то, что могло бы оказаться свирепым лицом Джурупари, или, скажем, картой, испещренной совершенно незнакомыми мне письменами. Я стер рисунок подошвой.
Глава 30
Ночь
Их было пятеро — трое мужчин и две женщины. Ждали за дверьми — только не у самых дверей, а в дюжине шагов от них. В ожидании они разговаривали, по двое-трое одновременно, почти крича; хохотали, размахивали руками, подталкивали друг друга локтем. Некоторое время я наблюдал за ними из тени. Они не могли заметить — либо просто не замечали — меня там, а я вполне мог делать вид, будто не понимаю, зачем они здесь. Могло статься, что у них просто какой-то праздник — все они были слегка пьяны.
Они приблизились — нетерпеливо, но все же не без колебаний, словно решившись преодолеть боязнь быть прогнанными. Один из мужчин, без сомнения, незаконный сын какого-нибудь экзультанта, был гораздо выше меня ростом и почти так же толст, как хозяин харчевни «Утраченная Любовь». На вид ему было лет пятьдесят с небольшим. Рядом с ним, почти прижавшись к нему, шла худая женщина лет двадцати — я никогда не видел взгляда голоднее, чем у нее. Когда пожилой толстяк оказался передо мною, загородив мне путь брюхом, она подошла ко мне совсем вплотную — чудом казалось то, что тела наши не соприкоснулись. Ее длинные пальцы потянулись к моему плащу, точно гладя мою грудь, однако не касаясь ее, и мне показалось, что я вот-вот паду жертвой какого-то призрака-кровопийцы — суккуба или, быть может, ламии. Остальные, сгрудившись вокруг, едва не прижали меня к стене.
— Значит, завтра, да? А что при этом чувствуешь? Как твое настоящее имя? А он — злодей, да? Чудовище? — Вопросы сыпались градом — видимо, спрашивавшие и не ожидали и даже не желали на них ответов. Им нужны были лишь ощущения от близости ко мне и беседы со мною. — Ты будешь ломать его на колесе? А клеймение будет? А женщин убивать тебе доводилось?
— Да, — сказал я. — Один раз.
Один из мужчин — низенький, хрупкого сложения, с высоким, выпуклым лбом интеллектуала — вложил в мою ладонь азими.
— Я знаю, ваш брат получает не так уж много, а преступник — нищ, от него чаевых ждать не приходится.
Женщина с распущенными седыми космами сунула мне носовой платок, обшитый по краю кружевом.
— Намочи его в крови. Хочешь, вымочи весь или — только уголочек. Я тебе после заплачу.
Все они были омерзительны и жалки, но одного мне стало и вправду жаль. То был человек еще ниже ростом, чем давший мне денег, и еще более седой, чем женщина с распущенными волосами. Тусклый взгляд его был исполнен безумия; казалось, его глазами смотрит на мир тень некоей непрестанной тревоги — подавленной заключением в темнице разума, лишившейся жажды вырваться наружу, но сохранившей все свои силы в целости. Он явно ждал, когда остальные четверо закончат говорить, но этому, видимо, не суждено было произойти никогда, и потому я жестом велел им замолчать и спросил, чего он хочет.
— Г-г-господин, на «Квазаре» была у меня паракои-та — к-к-кукла, так сказать, геникий (То есть часть дома, где жили женщины. Слово греческое.) моей каюты; прекрасная кукла с огромными, темными, точно колодцы, зрачками, а р-р-радужки, окружавшие их, были пурпурными, словно астры или же анютины глазки в весеннем цвету, г-г-господин; пожалуй, целые с-с-сады цветов потребовались, дабы изготовить эти глаза, это тело, что, казалось, всегда было согрето солнцем! И г-г-где же она теперь, моя красавица, милая моя? Да укрепятся крюки на месте р-р-рук, что украли ее! Сокруши их каменной плитою, господин! Куда пропала она из ящика лимонного дерева, сделанного мной для нее, где не спала она ни разу, лежа ночи напролет со мною — со мною, а вовсе не в ящике, где ждала она меня целыми днями — стражу за стражей, господин! — улыбаясь, когда я укладывал ее туда, и радуясь тому, что вновь улыбнется мне, когда я вернусь и выну ее? Сколь мягки были ее руки — ее маленькие ладошки! Точно г-г-голубки! Она порхала бы по каюте, трепеща ими, словно крылышками, если бы не предпочитала вместо того лежать со мною! Н-н-намотай же к-к-кишки их на свой ворот, вынь очи их и вложи им в уста! Сбрей их мужские члены острою бритвой, сбрей начисто, дабы их девки не узнали их, дабы прогнали их прочь их возлюбленные, дабы с горячих губ шлюх летел им вослед жгучий смех! Да будет воля твоя над преступными, утратившими без остатка чувство сострадания к невинным! Когда же восплачут они, когда же дрогнут сердца их? Что за люди способны на то, что содеяли они — воры, лицемеры, предатели, убийцы и хищники! Не будь тебя, г-г-господин, что было бы их ночным кошмаром, кто свершил бы возмездие?! Где были бы цепи их, путы, колодки и кандалы? Где были бы иглы, что ослепят их, где был бы жернов, что перемелет суставы их, кто сбросил бы их со скалы и раздробил их кости? О, где же, где же она — любимая, потерянная мною?!