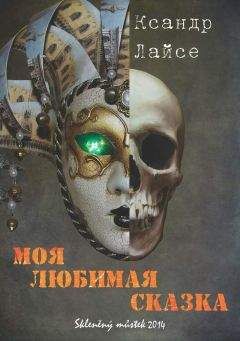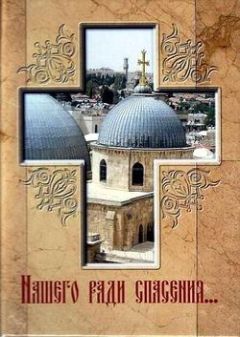Иар Эльтеррус - Черный путь
– И что делать? Смотреть на то, как…
– Нет. Искать способ не ломать и делать заново, безо всякой гарантии, что получится, а изменять осторожно, исподволь, так чтобы изменения проходили естественно и гармонично.
Хранитель опустил голову, размышляя над словами друга. Вернее, пытаясь размышлять – его мысли упорно возвращались к подмене понятий при определении, что первично – его долг, который следует исполнить, или бесчестье, испачканные в еще не пролитой крови руки…
Кёрнхель глубоко вздохнул, посмотрел на повелителя, на того, кому принадлежала его душа, его тело, его разум – он весь целиком, сколько его есть. Он принадлежал Этьену так, как еще никто и никогда в этом мире никому не принадлежал. И это не было рабством, хотя именно так и назвал бы это граф, расскажи ему полуэльф о Связи, что была между ними. Это не было рабством, на то имелась причина.
Он попытался поймать взгляд Хранителя – но тот смотрел вниз, в крепостной ров. Кёрнхель еще раз вздохнул и запел:
Что охраняет камень наших лиц?
Зачем звезда, с росой полночной споря,
Рождает ожиданье для убийц
И время пасть в обойме для героя?
Очередной бесславной пустоты
Честь сохранится на шаблоне речи,
И вечной плазмы жадные цветы,
И вечный взгляд пронзающей картечи…[10]
При первых звуках его голоса Этьен вздрогнул и посмотрел на певца. Нет, голос полуэльфа не отличался особым тембром, да и идеальным слухом Кёрнхель похвастаться не мог, как и виртуозным владением инструментом – но что-то было в его музыке такое, что цепляло за душу и заставляло вслушиваться сердцем.
Не надо. Просто там прошла война,
Война рассудка с сердцем, воли с чувством.
И что поделать, если есть вина,
А точность обвинения – искусство.
Слова сквозь холод падают в песок,
И пепел остывает чьим-то сердцем.
Ты смог подняться, но взлететь не смог.
И кровью став, ушел в свое бессмертье…
– Это твоя песня? – тихо спросил граф, когда смолкли последние отголоски звона струн. Кёрнхель тихо рассмеялся.
– Ну что ты, нет конечно. Эта песня… она издалека. Мне показалось, что она будет созвучна тебе сейчас.
– Созвучна? Да, пожалуй… именно созвучна. – Этьен прикрыл глаза и воспроизвел звучание в голове. – Созвучна… А что такое плазма?
– Эм… – Полуэльф на секунду замешкался. – Что-то… что-то вроде пули. Вернее, не совсем пули… в общем, этим стреляют из определенного типа пистолетов.
– Здесь знают огнестрельное оружие? – поразился Хранитель – он ни разу не видел здесь пистолетов или ружей, равно как и не слышал упоминания о них.
А Кёрнхель замешкался с ответом, мысленно костеря себя на все лады. Это же надо так проговориться!
– Здесь – не знают, – медленно, осторожно подбирая слова, начал он. – Но я много путешествовал и бывал в разных местах… Кое-где это понятие уже существует…
На беду полуэльфа, обмануть графа было не так-то просто. В глазах Этьена уже зажегся огонек подозрения.
– Ты никогда не рассказывал о том, что путешествовал.
– Ты не спрашивал.
Повисло тягостное молчание. Этьен понял, что очень многого, оказывается, не знает о том, кому привык, не задумываясь, доверять свою жизнь. А Кёрнхель с ужасом почувствовал, что наладившиеся между ними дружеские отношения дают трещину. Если Хранитель перестанет ему доверять, то он не сможет в полной мере стать для него тем, кем должен быть.
О том же думал и сам аристократ. До этого момента он мог с уверенностью сказать, что Кёрнхель – единственный, кому он доверяет полностью и во всем, от начала и до конца. Но теперь уверенность поколебалась, и Этьену это не нравилось. Помимо всего прочего, он просто привязался к странному полуэльфу, и мысль о том, что их дружба может быть убита недоверием, вызывала боль.
– Кто ты, Кёрнхель? – тихо проговорил Хранитель, поймав взгляд друга.
Полуэльф помолчал несколько секунд, потом спросил:
– Если я расскажу тебе правду, поверишь ли ты мне, какой бы дикой и странной для тебя ни оказалась эта правда?
– Да, – ответил граф, не колеблясь.
– Хорошо. Все, что я тебе говорил – правда. И мое имя, и моя история, и то, что я рассказывал о родителях – все это было. В этой жизни. Но я прожил их уже великое множество, не одну тысячу перерождений. И я помню их. Включая самое первое. Таких, как я, в Мироздании мало – я сам и два десятка моих учеников. Тогда я был молод и еще не понимал, на что обречен и на что обрекаю их, иначе учеников бы у меня не было – я просто не взял бы на себя такую ответственность. Нас называют по-разному, но чаще всего – Вдыхающими Жизнь. Мы бесконечно перерождаемся, и в каждом перерождении наступает определенный момент, когда мы начинаем чувствовать свою Связь с каким-либо разумным миром, в котором родились на сей раз. Природу этой связи невозможно объяснить, она просто есть. Тот или та, с кем я связан – всегда значимы конкретно для этого мира, как минимум. Великие императоры и ученые, властители и философы, маги и боги… кого только не было. Связь… она заключается в том, что Вдыхающий принадлежит тому, с кем связан. Душой, телом и разумом. Любой твой приказ, любое твое желание – для меня закон. Не знаю, как мои ученики сейчас, но раньше я был единственным, кто научился обходить это правило в том случае, если действия человека, с которым я связан, причиняли миру недопустимый, с моей точки зрения, вред. Помнишь, ты спросил меня, буду ли я на твоей стороне, если ты решишь уничтожить разумную расу? Я тогда сказал, что лучше убью тебя, чтобы не позволить тебе нанести такой страшный вред своей душе, а после покончу с собой, потому что не смогу жить без тебя.
– Да, я помню, – ошарашенно пробормотал Этьен.
– Собственно, это был пример того, как я могу обходить основной закон моего существования.
– Я понял…
– У меня были разные перерождения в разных мирах. Из одного такого перерождения я узнал понятие пистолета, из другого – эту песню, из третьего… в общем, я много знаю. Иногда слишком много для одного меня. – Кёрнхель невесело улыбнулся. – Вот такая вот история. Веришь?
– Верю, – уверенно ответил Хранитель. Он и правда верил. И теперь, когда некоторые странности были объяснены, пусть даже и столь невероятным образом, он снова доверял другу. Да, именно другу – что бы там Кёрнхель ни говорил насчет принадлежности, для цивилизованного человека семнадцатого века это означало рабство, а принять друга, как раба… нет уж, увольте!
– Спасибо, – серьезно проговорил Кёрнхель. – Ты не представляешь, что для меня это значит.
– Не представляю, – честно согласился аристократ. – Только… можно спросить?