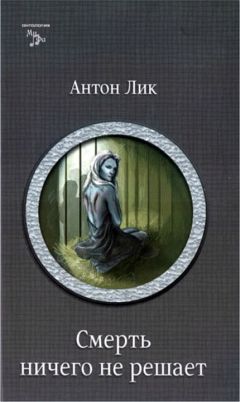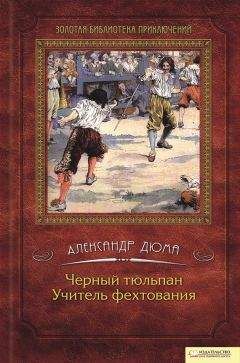Екатерина Лесина - Наират-2. Жизнь решает все
В полдень следующего дня по улицам и площадям понеслись глашатаи.
— Ясноокий каган Ырхыз жив и здравствует волею Всевидящего!
— Ясноокий каган Ырхыз жив и здравствует высоким умением хан-кама Кырыма!
— Ясноокий каган жив и здравствует чудесной волшбой скланы!
— Жив и здравствует! Жив и здравствует!
Глашатаев охраняли конные вахтангары в тяжелых панцирях, но даже они не совались в некоторые районы. К Трем башням, где ночью легкими пушками расстреливали голема рода Хурды-шада. На перекрестный рынок, где приколачивали к прилавкам, брали на вилы или просто руками рвали чужеземцев, без разницы, что из Лиги, что из степей. В огненную круговерть Тихого квартала, что занялся от лавки какого-то алхимика. А главное — в те места, где носилась вахтаги с желто-белыми лентами на одежде. Правда, частенько цвет лент трудно было разобрать под грязью, копотью и засохшей кровью, но многие быстро научились угадывать эти колоры, даже не глядя на повязки. Кто не обладал подобным чутьем, умирал под мечами и копытами.
Бельт сорвал с плеча истрепанный лоскут ткани. За три дня он менял его уже в пятый раз. Это простому воину можно не заботиться об отличительных знаках, но никак не табунарию, хозяину серебряной плети и трех десятков вахтангаров. Тридцать из пятидесяти. Много? Мало? Все еще достаточно для того, чтобы резать по поместьям и амбарам. Нобеля жалко, тезку отцовского, и глупо как получилось-то… Поспать бы.
Вахтага стояла прямо перед зверинцем, в крытой загородке, где до того, видимо, выгуливали животину. Да, вот так вот, под нормальной крышей дали сночевать только первую ночь, точнее часа три перед рассветом, а потом снова погнали в город. И еще раз, и еще.
Приказы всегда отдавал лично Урлак, для чего требовал Бельта в главную башню замка или в крыло хан-кама. Теперь табунарий и с закрытыми глазами нашел бы дорогу туда. Он уже почти ненавидел углы Шестиконечной башни, поварской дворик и полдюжины воротец и дверей с неисчислимыми коридорами и ступенями. Почти, потому как однажды все-таки дали там встретиться с Лаской. Она бормотала непослушным языком что-то про брата, пыталась плакать и рвать на себе платье, некогда белое, но посеревшее, давно не менянное. А еще Ласка просила покоя. Комнату, где можно лечь и не вставать. И чтобы Зарну наградили и отпустили, не мучили при проклятой. А главное, умоляла не показывать её Бельту, тому самому, у которого шрам. Незачем ему мараться. Так и уснула.
Еще как-то почудилось, что видел кагана. И ясноокий Ырхыз его заметил. Чуть поправил перевязь, на которой покоилась раненая рука, сдвинул на лоб еще одну перевязку, укрывающую всю правую половину лица, и вдруг подмигнул, дернул носом, оскалился.
Так делал иногда Орин их Хурда.
На том и всё.
Остальное было одинаково. Привычный путь и приказы, которые не заканчивались. Посажный Урлак без раздумий и колебаний опрокидывал кувшины с ханмийской кровью да навешивал на Бельта Стошенского тяжелые камушки. Нет, не выбраться из этой полыньи с таким грузом. Не зря беспокоилась Ласка. Замарался он. Так замарался, что вся хан-бурса не отмолит. И клопом присосалась мысль, что клятый Жорник, дохлый загляд, в чем-то был честнее.
Сегодня посажный был иным, появилась в нем вальяжность и спокойствие, которых прежде не было. Видать, ладилось задуманное.
— Скоро уже выплывем на твердое, — проворчал он, забрасывая в рот горсть сырных крошек. — Вроде приспокоили Ханму. Остался только Лылах, хитроумный мудрознавец. Его многоумность Лылах, позорно просравший покушение на ясноокого кагана!
За гневным рычанием прятался глумливый смешок, плохо скрываемое довольство. Летели в лицо Бельту жеваные крошки.
— Уж не потому ли просрал, что сам и сготовил? Сговорился с Агбаем, мысля младшего на трон посадить?
Урлак рассмеялся.
— А ты, табунарий, молодец. Мне бы таких с пару дюжин в нужных местах… Ну да город затихает, а значит и ты скоро передохнёшь, получишь награду. Осталось вот последнее дельце, тихое, но важное. Доставишь и передашь кое-что кое-кому.
«Кое-что» оказалось деревянным ящиком пяти локтей в длину. Льнули к доскам вонючие шкуры, перетянутые толстенными ремнями и цепями. Висели на цепях хитрые замки, заляпанные восковыми печатями и плохо различимые в ночной темноте. Ящик был тяжел и неудобен.
— В бок забирай, — прошипел Завьяша.
Бельт поднял чуть выше фонарь, чтобы видеть и ящик, облепленный полудюжиной людей, и неприметный выход из хан-камовского крыла, и небольшую крытую повозку. В проеме показался Ирджин, руководивший переноской груза до двери. В неверном свете он казался каким-то бледным.
— Все должно быть хорошо, — произнес Ирджин.
Интересно, кого он пытается убедить в этом? Что, сидел в своих лабораториях, придумывал заговоры, а когда оно взяло и началось, закрутилось по-настоящему, обосрался?
— Довезешь до урбийской развилки, там будут ждать.
И к чему повторять то, что уже известно? Нет, Ирджин точно беспокоится. Дерганый.
— Передашь груз и своих ребят получателю — они пусть сопровождают до конца — а сам с парой людей сразу назад.
А вот это — новое, Урлак такого не говорил.
— Твой друг слегка чудит, как бы глупостей не наделал. За камчара спрашивает: видно, нужно ему от тебя какое-то слово.
Ясно. Не обломали еще Орина, а времени толком нет. А парень ведь чувствует любую слабину.
— Обернусь быстро, — сказал Бельт, подсвечивая пол повозки, по которому заскреблись цепи.
— Удачи.
Напоследок Ирджин долго шептался с кучером, который хоть и слушал внимательно, но на месте ерзал. Не терпелось ему. Стоило же каму убраться, кучер обернулся — знакомая физия — и, приподняв кнутом лохматую шапку, спросил:
— Спорим на твою плеточку, домчу к середине ночи?
— Спорим, что выбью тебе два зуба с одного удара?
Бельт сел в седло и двинулся рядом с повозкой. Вместе с ним эскорт составлял двадцать две души. Ну и сраный спорщик в придачу.
Из Ханмы-замка выехали без шума, тихо прошли окраинами и ловкой петлей выбрались из столицы прямо на Красный тракт. За спинами все еще тлела, будоража темноту алым, одна из частей сердца Наирата.
Кучер, однако, не обманул, к месту встречи вышли в указанный срок. Сперва среди деревьев показался человек, а следом за ним еще один, вытягивающий из чащи четверик, впряженный в карету. Трещали ветки, поскрипывали колеса.
— Ну, здравствуй, уважаемый Бельт, — проскрипел Хэбу Ум-Пан. Вот кому на пользу перемены пошли: сменил драную шубу на многоцветный халат, дорогой и добротный, что было заметно даже в молочном свете Ночного Ока. И карета — не чета прежней, не говоря уже об упряжке. Главное же — висят, колышутся на слабом ветерке не прежние обрезки, но полновесные хвосты, знак возрожденного рода.