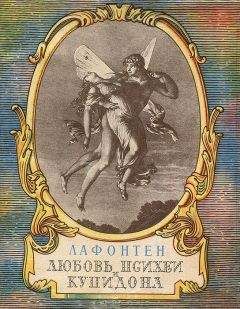Ярослава Кузнецова - Что-то остается
— Которая ваша. Очень лестно. Правда.
Тут, по моему мнению, вводную часть беседы можно было заканчивать. К интересующему меня вопросу я подплывала кругами, издалека.
— Кстати, насчет девочек. Они сейчас заняты по горло. Готовятся к выпуску. И наколки им должны сделать со дня на день. Ты видел когда-нибудь марантинскую наколку?
— Не доводилось, — Ирги пожал плечами.
— Ее наносят вот сюда, на внутреннюю сторону предплечья. Наколка изображает цветок черного мака о четырех лепестках, наложенный на свернувшуюся узлом змею-Амфисбену. У Амфисбены две головы, они повернуты в противоположные стороны, это символ двойственности: Свет-Тень, Пламя-Лед, Жизнь-Смерть… ну, и так далее. А мак, соответственно, изображает целительство. Интересно, правда?
— Н-да, — ответствовал Ирги, поджимая губы в бороде. Пальцы его застучали по столешнице, — Весьма интересно. Весьма.
— У моего двоюродного деда, в Катандеране, есть большой геральдический альбом. Я всегда любила его рассматривать. Ты ведь знаешь, геральдический зверь Лираэны — Белый Дракон. Вообще, знак Дракона символизирует вечность, а белый цвет — чистоту и святость. А вот у альдов старый королевский герб — Камана, это такая мифическая птица с головой рыси. А у Каорена — два герба; мирный, торговый — Золотая Ладья, и военный — Альбатрос и три скрещенных стрелы. А у Тилата какой знак?
— У Тилата? — Ирги перестал барабанить и дернул плечом, — Кастанга знает, какой. Овца вроде… на фоне гор.
Голос у него сделался напряженным. Не нравился ему этот разговор. Вообще похоже, он после вчерашних откровений решил идти на попятный.
— Забавно, — я делала вид, что не замечаю его недовольства, — У благородных семей тоже есть свои гербы. Но они, как правило, сложные, составлены из множества мелких частей. Например, у Треверров — три алые розы на золотом поле. Вообще наша фамилия так и переводится — три розы, «трев иверан» на мертвом лиранате. Но мне больше нравится герб семьи Нурранов из Тевилы — крылатый корабль и шестнадцать алмазных звезд. У альдамарской аристократии все больше геометрические фигуры в ходу, правильно их называют «геральдическими», ну, там — глава, стропило, пояс… А вот изображения, взятые из реальной жизни, негеральдические, весьма редки. Но я припоминаю один герб из книги… Кому он принадлежит, не помню… Там изображена кошка… а, может, две…
Ирги рывком поднялся, и я прикусила язык. Ох, зря я все это затеяла…
— Черный леопард. На лазоревом поле, — Ирги шипел сквозь зубы, — С серебряной каймой.
Я ясно различала подтекст — если ты сию же минуту не прекратишь играть в эти игры, я тебя вышвырну, как…
Редда подняла голову, ставя торчком уши. Скрипнула входная дверь, в сенях прошелестели шаги. Охотник движением фокусника накинул на хлеб и мясо кусок полотна, заменявший полотенце.
В комнату вошел Мотылек.
Глаза его метнулись от меня к Ирги и обратно. Он мгновенно оценил ситуацию.
— Привет, — сказал он и нахмурился, — Солнце светит. Тепло. Хорошо. Пойдем. Погуляем.
И схватил меня за рукав.
Я повиновалась без возражений. Он вытолкнул меня в сени, сунул в руки плащ, а сам задержался в дверях.
— Спасибо, малыш, — приглушенный голос охотника.
— Идем, — Мотылек выволок меня наружу.
Солнце сияло вовсю. Звенела капель, продалбливая ледяные канавки в старом сугробе. Снег, зернистый и рассыпчатый, был похож на хрустальное крошево.
Некоторое время мы брели бок о бок молча. Наконец я спросила:
— Он разозлился на меня?
Мотылек поддел ногой растрепанную еловую шишку.
— Он волновался. Он был раздражен.
— Он хотел, чтобы я ушла?
— Да… — Мотылек подумал и повторил: — Да.
Опять помолчали.
Мы миновали знакомые елки. Тропинка обледенела, кое-где проглядывали вытаявшие каменные гребешки.
— Плохо, — вздохнула я, — Возомнила о себе невесть что. Больно умная, думала. Сумею, думала, правильно задать вопрос — и пожалуйста, получу ответ на болюдечке…
Мотылек покачал головой.
— Я не понимаю, что ты говоришь. Но ты… жалеешь о чем-то. Ты недовольна? Собой?
— Еще как. Знаешь, есть такая вещь — любопытство. Иногда оно заставляет делать глупости.
Мотылек усмехнулся:
— Любопытство — не вещь.
— Верно. В руки не возьмешь, прочь не выбросишь. Как ты думаешь, стоит попросить у Ирги прощения?
Мотылек словно на стену натолкнулся.
— У… Ирги?
— Да, у Ирги.
— У Ирги… — он потрогал зашитую губу, — Если у Ирги… Тогда — стоит.
— Пойдем, — я резко повернула обратно.
Мотылек поймал меня за плечо.
— Нет. Не сейчас. Погоди.
— Чего ждать-то?
Пальцы его соскользнули по рукаву и сжали мою ладонь.
— Погоди. Дай время. Ему. И себе. Успокойся.
— Я спокойна.
— Нет. Еще нет. Поднимемся туда, к соснам. Там красиво. Видно долину, деревню. И твой дом.
— Мой дом? Бессмараг?
— Да.
Ладонь его оказалась узкой, твердой, удивительно горячей. Мне было приятно это прикосновение. Мы шли, держась за руки, как дети. Я оглянулась: цепочка Мотыльковых следов по всей длине перечеркнута косыми штрихами — это задевали снег концы сложенных крыл.
— Когда ты ушла вчера, он… Ирги… Он думал. И беспокоился. Я не спрашивал, но… Знаешь, очень трудно объяснить… Он верит тебе. И — боится… Боится? Опасается, да. Опасается, что ты… как сказать? Подойдешь слишком близко, так?
— Но от тебя-то он ничего не скрывает.
— Я — другой. Я — совсем другой. Я — один. И я… ничего не знаю. Правда. Он мало говорил. Не скрывал, нет. Просто я… Это сложно. Сложно для меня. Непонятно. Я могу… обойтись без этого.
И ты, Альса, можешь прекрасно без этого обойтись. Любопытство, как известно, кошку сгубило. Кошку, н-да-а… К черту кошек!
Я решительно полезла по склону вверх. Здесь было гораздо больше проталин, покрытых седой прошлогодней травой. В пазухах камней виднелся сочно-зеленый мох и перезимовавшие листики брусники. Наверху, среди редких сосен свободно гулял ветер.
Долина Трав открылась, как большая чаша. Из-под наших ног ступенями уходили вниз хвойные леса, кольцом окружая прижавшуюся к самому дну деревню. От деревни разбегались две охряные полосы, две дороги. Одна — мимо нас, на юг, к Голове Алхари, вторая пересекала долину и зигзагом поднималась к противоположному склону. Там, на коленях Большого Копья, расположился Бессмараг — светло-серые стены, шпиль колоколенки, длинная, утыканная трубами, крыша больницы.
Как все близко. А Мотыльку — пару раз махнуть крыльями — и уже на той стороне. Внизу шевелились человечки. От монастыря катила двухколесная тележка — кто-то из сестер спешил к больному. Кузница Кайда, на самом краю деревни стояла открытая, вокуг толпились люди. Люди толпились и у Эрбова трактира. Сюда, к нам не долетало ни звука. Шумел только ветер, перебрасывая у нас над головами вороха хвои, да вороны орали, одурев от солнца.