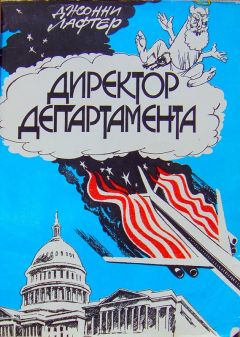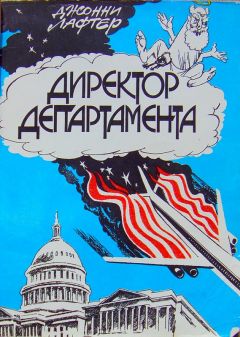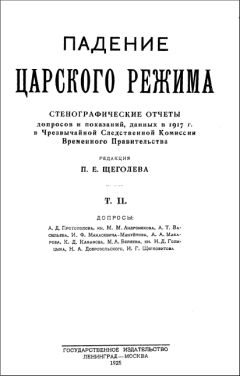Лев Вершинин - Доспехи бога
А объяснять надо.
— Не справитесь, — стараюсь звучать неотразимо убедительно. — Его мало убить. Его нужно Уничтожить. До последней пылинки. И только мне это по силам. Ваше дело — верить или нет… — повторяю я его же слова.
— Наше, — кивает каффар.
Затем вытягивает губы трубочкой, негромко свистит.
В углу — шорох, постукивание. Длинная вислоухая псина, вылитая такса, неуклюже выкарабкавшись из-под дивана, вперевалочку семенит ко мне.
Нуффо отклеивает от меня взгляд и следит за зверюгой. А та, добравшись до моего кресла, очень деловито ставит лапы на подлокотник и, смешно суча задними конечностями, вскарабкивается на колени.
— Асфалот! — укоризненно говорит хозяин.
Ноль внимания. Животина топчется по мне, часто стуча жестким хвостом. На вид она очень дряхлая. Сиво-седая, беззубая, с проплешинами и лиловатым бельмом на левом глазу. Тоже, наверное, Изначальное Зерно поливала, непочтительно думаю я.
— Норо лим! Норо лим, Асфалот! — строго окликает Нуффир.
Живая руина со звучным именем шумно спрыгивает, вернее, сваливается с меня и, приволакивая задние лапы, грузно утопывает обратно, под диван.
— Асфалот — потомок псов Предвечного, поливавших Изначальное Зерно, — голос Нуффо торжественен. — Асфалот не ошибается. Я верю вам, посланец Эру.
Наси ха-каффри начинает сдирать кожу с правой руки, от локтя и вниз.
Лицо его при этом спокойно и невозмутимо. И никакой крови…
Арбих меня предупредил. Это хорошо, это высшая гарантия, но смотреть все-таки неприятно, не сказать — жутко…
Перчатка ничем не отличается от кожи. Даже легкий загар, даже едва различимые золотистые волоски. Почему это так действует на нервы? Ведь ничего ж страшного; ну, нельзя им прикасаться к мерзости окружающего мира. Бывает. И не прикасаться тоже нельзя: изгою не к лицу надменность. Так что никак каффарам не обойтись без «второй кожи». Хотя, конечно, для особо важных случаев предусмотрены и исключения. А мой случай, безусловно, особо важный.
Интересно, лица у них тоже синтетические? Сие даже Арбиху неведомо.
Каффар встает, протягивает мне руку, ладонью вверх. Поднявшись, повторяю его жест — ладонью вниз.
Краткий миг соприкосновения ошеломляет. На меня обрушивается шквал образов, феерически ярких и, несомненно, исполненных тайного смысла, мне, к сожалению, недоступного. На какое-то мгновение я выпадаю из реальности, а затем буря сменяется штилем. Остается лишь ощущение абсолютной, полной, безоговорочной надежности. Верительная грамота по-каффарски. Быстро, просто, изящно, и никакого тебе унизительного зондажа мозгов…
— Прекрасно. — Нуффо ловко натянул перчатку. — Вас известят о месте и времени окончательного расчета. Теперь попрошу адрес.
— Западный тракт. Восьмая миля. Имение «Тополиный пух».
Мой собеседник приятно удивлен.
— Арбих?! Арбих дан-Лалла?! Это очень хорошо, друг мой. Вы даже представить себе не можете, как все удачно складывается… Отворен ли какой-либо пароль?
— Картагинем делендам эссе.
Нуффо приподнимает бровь. Ему явно неведомо, что такое Карфаген и почему его следует разрушить.
— Это что, старомаарваарский? Впрочем, неважно.
Прикрыв глаза, он повторяет фразу несколько раз, затем удовлетворенно кивает.
— Опознавательный знак?
Отстегиваю служившую мне верой и правдой ящерку.
— Извольте.
— Знаменитая вещица… — улыбается Нуффо. — Сохраним и вернем, не сомневайтесь.
— Благодарю, не стоит. Оставьте ее маанак мехесу.
— Что ж… Угодно еще вина?
Не смею долее задерживать, явственно звучит в его вопросе. Сидит как на иголках, вот-вот начнет рыть копытом землю от нетерпения. Сделка заключена, пора действовать, а знать секреты каффарской паутины чужаку ни к чему…
— Не стесняйтесь! Прижимаю руку к сердцу.
— Сердечно благодарю, почтенный у-Яфнаф, и прошу простить. Дела!
— Как жаль! — неискренне огорчается каффар. — Может быть, в другой раз?
— В другой раз с удовольствием, — неискренне обещаю я.
Хозяин, отставая на полшага, сопровождает меня до самого выхода.
— Светлой вам дороги, — говорит он, распахивая дверь. — Всегда готов к услугам.
— Взаимно, — говорю в ответ. — Прощайте.
И я выхожу. Хотя вполне мог бы и не выйти. Нуффир, что ни говори, реалист. Но это и хорошо. На идеалистов невозможно положиться…
ЭККА ДЕСЯТАЯ, действие которой происходит в виду Старой Столицы, на равнине Гуш‑Сайбо, весьма удобной для кавалерийских атак
Жизнь — цепь мелочей, исполненных смысла.
Ты поскользнулся на кем-то пролитом масле, упал — и запомнилось, хотя боль вскоре ушла; тебя вскользь обидела любимая, и хотя сразу же извинилась, а на сердце все равно — липкая муть, о которой ты, возможно, и забыл, но сама-то она никуда не делась; вчера еще были нежные, полупрозрачные колокольчики под окном, а сегодня их нет — кто-то сорвал мимоходом, и это тоже отметилось в душе как важное.
Но время течет, понемногу промывая память; нет масла, и нет обиды, и нет колокольчиков; и живешь дальше, ожидая своего часа.
Ну вот — час настал.
Суета сгинула. Ее не видно, не слышно. Ее нет. А есть — зеленая, слегка покатая равнина; пока что — самая обычная, но очень скоро хронисты, скрипя перьями, внесут в свитки ее пока еще никому не ведомое название — Гуш-Сайбо…
Впрочем, им, добровольным узникам тесных келий, довольно окажется одного лишь названия; им не будет дела ни до этой застланной ковром шелковистых трав земли, ни до этого нежно-розового, стремительно желтеющего солнца, встающего в молочном тумане, ни до этих исподволь пронизывающих порывов ветра со стороны далеких черных гор; им не дано будет увидеть воочию, как, повинуясь вскрику трубы, скачут на левый фланг могучие иммакуны, плавно выбрасывая мохнатые ноги, всплескивая вычесанными хвостами, как плывут над пешим множеством всадники в доспехах из бычьих копыт, как вьются поверх лат золотистые плащи и взблескивают, скользя по металлу, отсветы незлого утреннего солнца…
Горе им, летописцам, ибо им не будет дела до всего этого.
…Дым жизни, пыль суеты — их нет. Словам нет места на этом поле, когда войска уже выведены, когда тысячи мужчин, не спеша и не медля, выстраиваются в боевые порядки, когда храбрый глядит вперед, мудрый — в себя, а робкий — по сторонам, но никто не решается взглянуть назад; когда уже нечего покупать и не с кем договариваться; сила и мужество — только они остаются в этом мире один на один с тобой, с этим зеленым, еще не тронутым простором и с этим радостным солнцем.
Умолкают рожки и трубы.
Стихает, сминается говор в строю; копьеносцы, стоящие в первых, обреченных шеренгах, покрепче перехватили древки; тишина — только гудят туго натянутые канаты где-то далеко позади, где, скрипя осями, разворачиваются камнеметы.