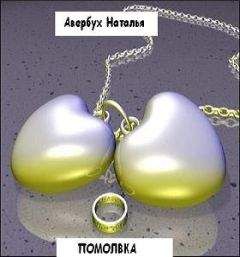Ольга Григорьева - Ладога
И как в таком щуплом теле такая ненависть обитает? Видать, потому и смотрит на него кузнец, словно на больного. Да иначе его и не назовешь.
Во мне ненависти не было, даже злости на Князя не держал. Не обидел он меня ничем, просто вышло так, что придется мне на его ладью напасть. Боги все видят, знают – не смог я иначе, простят…
– Я все-таки помогу вам, – настойчиво повторила Васса.
Что неймется девке? Ей бы холить свою редкостную красоту и суженого ждать, а она заладила, словно кукушка, – «помогу да помогу».
– Не нужна нам твоя помощь! – Неужели Беляна? Хрипло и зло закричала, словно ворона закаркала. Лицо налилось багрянцем, глаза злые, а в глубине – страх. Чаще всего люди со страху кричат, только чего ей-то бояться? И тут смекнул. Красоты Василисиной страшилась Беляна! Опасалась, что не устоит перед прелестницей Чужак. Вот уж впрямь – все у девки любовь на уме. На смерть идет, а о сопернице думает. Хотя…
– А ты, Беляна, никак с нами собираешься? – Хотелось бы мне успокоить ее, уговорить ласково, так ведь не послушает, ради ведуна, не меня, – гору свернет с пути. – Драться не умеешь – того гляди, своего вместо чужого прибьешь. Нет, ты нам не помощница, лишь помеха.
Запылали карие глаза, зыркнули на меня не добрее, чем на Вассу:
– С собой не возьмешь, одна пойду! Ты мне не указ! Сам волю дал.
– Тогда и ты мне не указ что делать, что не делать, – встряла Васса. – Я с рождения свободная была, ни под кем не ходила.
Вот тебе и птичка-невеличка, а клюет не хуже ястреба. Беляна даже растерялась, смолчала. Зато у Лиса голос прорезался:
– Две девки, старуха да припадочный – хорошо войско!
– А меня не считаешь? – приободренный возможностью вызволить Чужака, спросил Медведь.
– И меня.
Стрыя я и впрямь не считал, уж больно лихо он противился всем нашим планам. Я удивленно вскинул голову.
– А что, – огрызнулся он, заметив мое недоумение, – прикажешь брата с сестрой на такое дело одних отпускать?
– Да нет, – мне не хотелось ссориться. – Пара лишних рук нам не помешает.
– И на том спасибо, – кузнец повернулся к горбунье, – говори Неулыба место.
– Не спеши, – она встала, принялась вытаскивать из-под полока плотно увязанные тряпицами горшочки. – Дам я вам снадобья, от которого сил прибавится да сон вещий придет. Во сне каждый себя увидит и место, где ладья Княжья остановится. А покуда не мешали бы вы мне…
Беляна смекнула, молча вышла. За ней потянулись и остальные.
Богам наша затея не нравилась. Хмурилось небо, ни одна звезда не смотрела с высот. А может, наоборот, скрылись, чтобы не выдать нас Меславову вещему оку случайным всполохом?
– Спел бы, Бегун?
– Нет.
Впервые на моей памяти отказался Бегун петь. Плохо дело, когда даже такому, как он, песня на уста нейдет.
Плескалась за ольховником Мутная, и померещился мне за черными руками кустов гладкий бок Меславовой ладьи. Страх пробрался в душу. Я настоящую ладью лишь издали видел, а уж как лезть на нее да еще при этом драться и вовсе не знал. Показалось затеянное нелепым, невозможным. Так и подмывало подняться, стряхнуть наваждение и очнуться от морока, невесть кем насланного.
– Никак заснули? – раздался грубый голос знахарки.
Вот и ушла ладья, даже всплеска на воде не оставила, а вместо нее – полянка, орешник да сгорбленные под гневным небом жалкие фигурки – все наше войско.
В избе пахло чем-то сладко-приторным. Булькало на приземистом столе зеленоватое варево. Нависала над ним неуклюжая горбатая тень старухи. Словно в детских песнях о колдунье-ворожее, Весну пытавшейся сгубить.
– Пейте.
Запах от корца шел невыносимый, но еще невыносимее была мысль, что не сдюжим, бросим начатое на полпути.
Я зажмурился и выпил. Потек по горлу жидкий огонь, опалил душу. Веки пудовыми гирями потянуло вниз. Ноги предали, опустили на полок. Каким-то неведомым чутьем угадал в осевшем рядом теле Беляну. Потянулся к ней с одной мыслью – уберечь, оборонить, и тут всплыла вторая, страшная: «А вдруг обманула знахарка, опоила сонным зельем, чтоб не втянули в дурное дело ее Василису?» А потом все пропало, и очутился я на высоком берегу. Солнце веселило реку, танцевало на волнах яркими бликами, а из-за поворота, против течения, шла нарядная ладья… Та самая… Княжья.
БЕГУН
Я не хотел пить Неулыбино зелье. И Чужака выручать не хотел. Хватит нам от него неприятностей! Во всем ведун сам виноват был. Может, Миклагардские рудники с него спесь собьют, научат уму-разуму… Но тошно становилось от мысли, что уйдут с солнышком мои родичи и останусь я один-одинешенек на белом свете…
– А ты что же? – Неулыба протягивала мне доверху наполненный корец. Мутная жижа плескалась, испуская ядовито-сладкий пар.
– Нет. – Я отодвинул ее руку. Хватит под чужую дудку плясать да за спины друзей прятаться. У каждого свой путь. Нет им жизни без ведуна, так пускай выручают. А у меня своя дорога. Как кузнец сказал – «своя правда». И никто меня за такое решение не осудит.
Я забился в теплые шкуры, но сон не шел. Старуха, кряхтя, копошилась у печи, бренчала какими-то горшками, шептала невнятно. Медведь сопел во сне, а Беляна, вжавшись под бок Славену, казалось даже не дышала. Стрый раскинулся прямо на полу посреди клети, заботливо обнимая обеими руками родных, словно и во сне старался защитить, закрыть от неведомой опасности. Я смотрел на них всех, и не верилось, что больше, может, и не увижу никогда.
Неулыба увязала махонький узелок и вышла, шаркая ногами. «Куда она в ночь-то? – подумалось лениво, а потом словно озарило: – Опоила и в Ладогу за Меславовыми дружинниками пошла!»
Я стрелой вылетел следом. Горбунья как испарилась. Небо разъяснело, и явственно было видно маленькую небесную собачку Чернобога, грызущую удила звездного Перунова коня. Сколько столетий пыталась она свершить свое темное дело, прячась в ночи, но каждое утро уставала и бежала к Студенцу напиться, а удила к тому времени вновь срастались. Мне некогда было упреждать Желтобородого, к тому же он, чай, сам уже обо всем знал и позволял Чернобогу тешить свою ненависть, чтоб не так на людях буйствовал. Я, крадучись, побежал к реке, проскользнул сквозь переплетение ветвей и замер. От стыда кровь прихлынула к щекам, показалось, они заполыхали в темноте алым пламенем. Никого не предавала Неулыба. Стояла она по пояс в воде, протягивала к небу тощие старушечьи руки, и бежали по ее дрожащим щекам серебристые дорожки слез. А еще она пела. Так пела, что мое сердце перестало стучать, сжалось в груди от печальной стонущей песни. Просила Неулыба Реку-Матушку о помощи и рассказывала ей о добрых, смелых людях, которые спали крепким сном в ее доме.