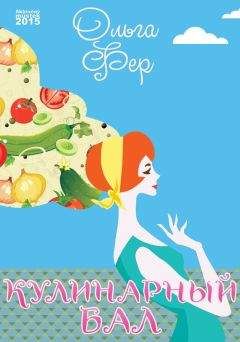Екатерина Казакова - Наследники Скорби
Бояре загудели, переглядываясь. Тимлец стал черен лицом и не выдержал, вскочил:
— Ты, Глава, воеводой стал — без месяцу седмица. В сыновья мне годишься. Я твоей чести не умаляю, но ратная слава — одно, а ум пожит
о
й — другое. Одумайся, чего творишь. Добра от сего не будет. Кто ж станет платить десятину из своих прибылей за благости для бедняков? Что от рыбацкого достатка — десятина? Корзина ершей. А от купеческого? Ткани, утварь, меха! Где видано такое?
— Не надобны мертвецу ни утварь, ни ткани, ни меха, ни ерши. Ему упокоение нужно. Если есть кому упокоить, — мягко заметил Клесх, в надежде, что посадник одумается.
Впусте.
— Глава, дай хоть день на раздумья, — сказал со своего места один из бояр. — Как же так — с плеча-то рубить?
Клесх обвел всех тяжелым взглядом.
— Как вы дела-то купеческие ведете, если речи простой не разумеете? — спросил он. — Я не уговаривать вас приехал. А о новом укладе поведать. Обсуждать вам нечего. Раздумывать — тоже. Ваше дело на ус мотать да десятину откалывать. Ибо — не досчитаюсь если, добром для вас не кончится.
От его неуважительной речи славутский посадник дернулся, как от удара хлыстом, мигом растеряв и степенность, и вежество:
— Не много ль воли взял, чернец-удалец? — возвысил он голос. — Казнить нас берешься и миловать, а за что, не ответишь ли? Или не платим мы за требы ваши все до медяка? Или, может, торгуемся, когда вы серебро с нас берете? Или отказался я ныне за труд ваш платить? Нет! Одного лишь просим — роздыху. Десятина — где ж это видано?!
И он тряс кулаком, а сидящие на лавках купцы согласно, хотя и негромко, гудели в поддержку. Обережник слушал спокойно, не выказывая ни гнева, ни негодования. Наконец, когда посадник смолк, Клесх сказал:
— Я тебя выслушал, Тимлец Вестович. И скажу так. Десятина возложена на все города и веси. Славуть ничем не краше и не гаже прочих. Как все платить будут, так и вы. Пользы городу от этого будет немало, сам посуди — все под защитой, как у Хранителей за пазухой. На деньги ваши сторожевики детинец утвердят, воев в нем учить будут. Вдов и сирот из города приберут, дабы глаза не мозолили. Лекарь ходить станет по требе, ратоборец обозы водить — сколько понадобится. В чем худо-то?
Крефф все пытался достучаться до посадника, которому злоба и жадность застили ум. Увы. Тимлец не слышал здравых рассуждений. Лицо его багровело, делаясь в один цвет с рубахой.
— Это с какой радости я должен за баб и сирот платить? Да еще из году в год? У меня подворье заговорено, родичи все с оберегами. Такие деньги уплачены! Да мы на три года защитой осенены! Хоть все сейчас с места снимитесь, мы и не почуем! А драть с себя три шкуры не дам! Ваше дело холопское: платят — делай. Аль ты, Глава, во власть поиграться решил? Дак чтоб в нее играть, не только статью, но и умом выйти надо. Сегодня Славуть от тебя отворотится, завтра Ершим, послезавтра Сем
и
лово и Елашир, а там, глядишь, и Старграду с Гродной не понравится, что их до костей обдирают. Недолго твое воеводство продлится: свои же попросят! Удумал нас под ярмо подвести? В горсть взять? А десница-то крепка? Удержит? Гонору молодого много в тебе, а главного не понимаешь. Ежели с купцов в пользу босяков стружку снимать — недолго они тебе кланяться будут.
Обережник слушал его терпеливо, а когда посадник замолчал, набирая в грудь воздуха, сказал:
— Уж не удумал ли ты, будто Ходящим разница есть — купец перед ними или босяк? И тех и других они жрут одинаково. И под твои же стены потом приходят. Нет сейчас ни купцов, ни босяков, а есть просто люди. И всем им жить хочется, оттого и платить все будут по силам. — Он говорил это и понимал, что Тимлец его не слышит.
Так оно и оказалось. Городской голова зло шипел:
— А я раз сказал и еще повторю: мы за свою защиту серебра Цитадели уже отсыпали. Второй раз не пытайся за то же сызнова тянуть! А откажешь в помощи, да город жрать начнут, поди многие зададутся мыслями о том, кто нынче Цитадель возглавил. И надолго ли.
Клесх вздохнул, но все же спросил, чтобы не было между ними недосказанного:
— Стало быть, десятину ты платить отказываешься, власть Цитадели и волю ее над собой не признаешь и людей своих на то же подбиваешь?
Купцы вновь загудели.
— Все ли согласны с посадником? — перевел ратоборец взгляд на пришедших.
На ноги поднялся худой, узкий в кости мужик в богато вышитой рубахе и с длинными светлыми волосами, лежащими по плечам:
— Не все, Глава. В твоих словах есть правда. Лучше раз в год отдавать десятую часть прибытка да голову более не ломать, чем всякий раз отсчитывать монету и ждать, когда Цитадель снова поднимет плату за требы.
— Значит, не все с тобой согласны, Тимлец Вестович, — со значением проговорил обережник, краем глаза отмечая, как рядом с худым купцом наметилось оживление — кое-кто из бояр согласно кивал, поддерживая высказавшегося.
— Коли хотят, пущай платят, — огрызнулся посадник, бросив злобный взгляд на соотчича.
— Да ведь не об том речь. Коли есть те, кто хотят платить, не могу я Славуть без помощи оставлять. Вот ведь оно как… Поразмысли, может переменишь решение свое?
— Я решений своих не меняю, — угрюмо подвел черту Тимлец.
— Ну, раз нет… — Клесх кивнул сидящему слева от него колдуну.
Наузник подался вперед и, прежде чем посадник успел отшатнуться, осенил того неровным движением ладони.
— За сим налагаю на тебя Мертвую Волю, — сказал обережник и опустился обратно на лавку.
Лицо Тимлеца покрылось белыми пятнами. В горнице повисла тишина. И в этой тишине Клесх негромко спросил:
— Есть ли еще среди вас те, кто считают себя вправе не подчиняться общей правде?
Посадник рванул ворот нарядной рубахи и рухнул на колени. Губы беззвучно что-то шептали, но не могли исторгнуть ни звука. Обережник, отмеривший боярину страшную участь, не смотрел в сторону покаранного, словно тот уже не считался живым. Клесх обводил пронзительным взглядом славутских купцов, на лицах которых был написан ужас.
— Лад, велика ли семья у Тимлеца Вестовича? — спросил Клесх колдуна.
— Жена, сын, да три дочери-девицы, — ответил тот.
— Вдову отправить в Цитадель. Будет там в прислуге. Из скарба разрешаю взять один ларь с самым необходимым. Поедет с первой же оказией. Сына… в Любяны. Будет жить при детинце, вразумляться ратному делу, глядишь, иначе чем отец станет на труд обережников глядеть. Дочерей… Этих — нынче же ко мне. Ну, а дом и все имущество посадника переходят Цитадели.
Он помолчал и обвел глазами славутчан:
— Я так и не услышал: есть ли еще те, кто не хотят платить дань Крепости?