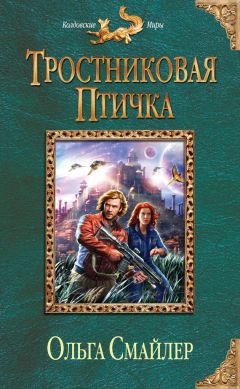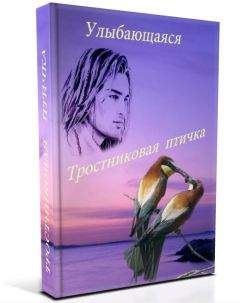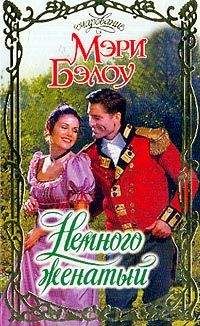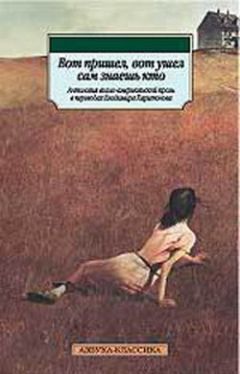Ольга Смайлер - Тростниковая птичка
— Значит, Расмус боялся не того, что ты возьмешь свое решение назад, он боялся за маму? — я уже не знал, что и думать, — Но как же? Если это правда, то почему ты никогда не интересовался, как мы живем?
— Уна стала чужой женой. Это было моим решением. Чтобы я по этому поводу ни думал и ни чувствовал, я был не вправе больше вмешиваться в её жизнь. А вот ты…
Отец махнул рукой, показывая на карточки рассыпанные по столу, придвинул мне стопку писем:
— Ты смотри, смотри… Вряд ли у нас будет возможность поговорить еще раз. Ты ведь не передумаешь?
— Нет. Ты же понимаешь.
— Понимаю, — кивнул отец.
— Прости, — неожиданно искренне попросил я, и получил в ответ слабый взмах рукой.
Я молча перебирал снимки и удивлялся: некоторых не было даже в нашем семейном альбоме. Вот Расмус держит меня на руках в Храме Праматери, принеся меня на имянаречение.
— Единственное, о чем я просил его — это назвать тебя Сайгоном. Мы выбрали это имя вдвоем с Уной, и я боялся, что после всего случившегося она не захочет назвать тебя так, — послышался тихий отцовский голос.
Снимки, снимки, снимки… Вот мы с мамой в парке, катаемся на карусели, а её светлые волосы спрятаны под платок. Я с мамой, я с Расмусом, вот мы с Терри деремся, вот ведем за руки смешно переставляющего ножки Сибила. Вот я во дворе отцовского дома показываю в след Найне неприличный жест, а вот я с дядей Эмилем тренируюсь на заднем дворе. На всех этих снимках был я — один или с кем то, отдыхающий или занимающийся, улыбающийся или хмурый. Я потянулся к письмам уже зная, что я прочту там. Ровный, незнакомый почерк, который подробно рассказывал о каждом месяце моей жизни в тихом поселке со смешным названием "Первый", где не селились воины, сменился на летящий и угловатый, рассказывающий о моей жизни в школе.
— Все эти годы, пока ты был маленьким, я не позволял себе ни намека на чувства к тебе или к твоей матери. Любое проявление слабости неминуемо привело бы к тому, что на вас снова обратил бы внимание Храм. Мне все казалось, что когда ты повзрослеешь, я смогу объяснить ты поймешь. Но когда я приехал за тобой…
— Погоди, — перебил я его, потому что от воспоминаний о том дне подступила горечь, — Но почему, если все было именно так, говорят о том, что ты не захотел жениться на маме?
— Ты еще не понял? — отец очень устало потер свой браслет, и я понял, что этот жест я унаследовал от него, а еще вдруг части головоломки сложились.
— Найна?
Отец лишь невесело усмехнулся в ответ:
— Я плохо помню, что происходило после отъезда Уны: я не помню, что я делал, как жил. Не помню того, как решил жениться (возможно, это решение приняли за меня). Даже нашу свадьбу с Найной помню лишь урывками, например, как она бьет меня по лицу и кричит, чтобы я больше никогда не смел называть её в постели именем "иномирянской ведьмы, которая совсем заморочила мне голову". А когда я немного пришел в себя и смог воспринимать окружающую действительность… слух уже оброс подробностями, и бороться с ним было бессмысленно. Впрочем, у Праматери извращенное чувство справедливости: в итоге эта глупая выдумка обернулась против самой Найны. Её саму стали считать женой проклятого, и жрицы и врачи отказались помочь нам с детьми. Видит Праматерь, я не желал и не желаю Найне зла, я предан ей и забочусь о её нуждах, я чувствую к ней мучительную привязанность, вызванную браслетом, но я так и не смог забыть твоей матери, Сайгон. Найна всегда это чувствовала и ревновала ужасно, а когда ей сказали, что у нас не будет детей… У нас случилась ужасная ссора: Найна кричала, обвиняла меня в собственном бесплодии, в том, что я загубил ей жизнь. Это был единственный раз, когда я сорвался, и проговорился о том, что у меня есть ты. Для Найны это был жестокий удар: узнать, что её соперница не только счастлива, но и имеет то, чего у нее никогда не будет. А потом Дочери Храма нашли вас. Твоя мать после двойняшек уже не могла иметь детей, и была для них бесполезна, а вот ты… Тогда я чудом успел опередить храмовниц и забрать тебя в свой дом. Храмовницы были в бешенстве, но и я уже не был прежним. Мы торговались, как два харепа на Ак-Тепе за стакан тыквенных семечек: мне разрешили признать тебя и оставить в своем доме, но потребовали запретить тебе покидать Кериму. Мне казалось — я победил, но ты ненавидел меня, и эта ненависть была осязаема. Знаешь, сколько раз я, взрослый, сильный мужчина, которого боятся и уважают, воин и глава сильного рода стоял у дверей твоей спальни и не мог решиться зайти? А потом ты впустил в свой мирок Эмиля, и я умирал от ревности и боли. Мы тогда долго говорили с ним, и Эмиль уговорил меня оставить все, как есть — ненависть помогает достигать цели, а пока ты ненавидел меня — Найна не стала бы тебе вредить.
— Так значит воинская школа? — начал я
— Да, это была моя идея, — кивнул отец, — там жрицы Храма не могли тебя достать, а мне с каждым годом все тяжелее было защищать тебя. Мне удалось уговорить Расмуса отправить туда Терри: вы были так дружны в детстве, и я не прогадал.
— Значит и десятка… — начал закипать я.
— Остынь, — попросил отец, — я сделал все, что было в моих силах, чтобы ты захотел учиться. Дальше ты добился всего сам, и я горжусь тобой.
Мы замолчали: говорить было трудно, слишком много всего недосказанного, недовыясненного накопилось между нами. Оказывается, я совсем не знал человека, который был моим отцом.
— Прости за свадьбу, — неожиданно попросил он шепотом, — Ты так смотрел на нее… Я боялся, что жрицы сломают и твою судьбу, надеялся, что ты будешь счастлив. Кто же знал, что… Краст! Ты — единственное и самое ценное, что у меня осталось от Уны. И вот теперь я теряю тебя, так и не успев толком узнать.
Меня охватило странное опустошение, как будто разом кончились все силы. Я встал, кивнул отцу, и, не прощаясь, отправился к двери.
— Ты поможешь? — спросил я, обернувшись у порога.
— Я приду попрощаться, — ответил отец церемонной фразой, которая сейчас значила и поддержку, и обещание помочь, и то, что он принял мой выбор.
Пока я спускался по лестнице перед глазами стоял снимок: молодой Эд держит на руках юную Уну, и они улыбаются.
В Таншере лил дождь. Я сидела, обхватив коленки, на подоконнике лестничного окна, том самом, превращенном в помесь дивана с комодом (Тара называла эту конструкцию греденцией). Пристроившись спиной к оконному откосу куталась в теплую новенькую шаль, подарок Сая, смотрела в окно и хандрила. Пейзаж за окном из-за дождя стал серым, таким же, как мое настроение. Мне стало казаться, что после визита к свекрови в наших отношениях что-то сломалось. Нет, Сай по прежнему был нежен и внимателен, но… Он словно стал чужим: напряженным, озабоченным, после возвращения домой заперся в своем кабинете, куда очень скоро подтянулись хмурые Терри и Мист, а сегодня с утра вообще уехал, оставив на кровати коротенькую записку о том, что поздно вернется, поверх шикарной шали иссиня-черного цвета, словно переливающейся изнутри крохотными красными и лиловыми искрами. И вот теперь я сидела на подоконнике — греденции, и смотрела в окно, отчаянно надеясь увидеть, как машина Сая пробирается к дому. Но машины все не было и не было, и я снова и снова возвращалась мыслями к этому крайне неудачному визиту.