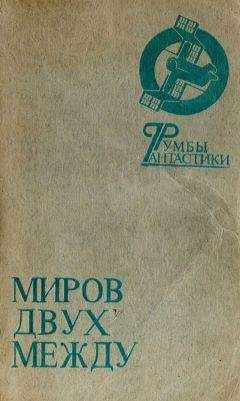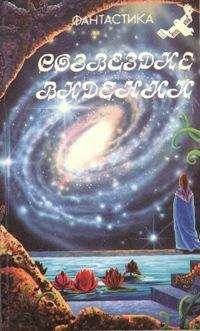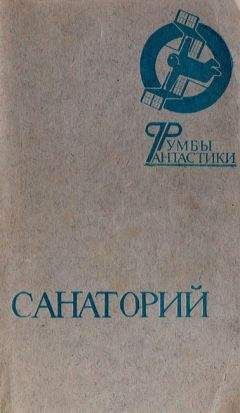Роджер Желязны - Колесо Фортуны
— Я с ней живу уже полтора года. Бывает много… не обращай внимания.
Сильвия вернулась, в руках у нее был глиняный горшок с цветами.
— Я им спела колыбельную, — сказала она. Питер посмотрел. Как ни странно, все цветы закрылись. — Ты их собрал, мы будем их есть?
Питер прикусил губу.
— Просто смотреть на них, — сказал он.
— О, — сказала Сильвия. Она выпрямилась. — Я бы лучше смотрела, как они растут.
— О’кей. Больше не буду приносить тебе цветы. — Он искоса глянул на Никки и кивнул ей. В конце концов, она не такая уж ведьма. — Что бы ты хотела поесть, Сильвия?
Она некоторое время смотрела на цветы, ресницы отбрасывали тени на ее щеки. Легкая улыбка изогнула губы.
— Сладкое, — сказала она.
— Десерт? — переспросил он. Внезапно ему представилось, что этот момент он запомнит на всю оставшуюся жизнь. Сильвия посмотрела на него, и он увидел, что по краям серой радужки ее глаз шел зеленый ободок. Лицо было бледным и юным. Ему захотелось смотреть на него до конца своих дней.
«Откуда она такая? — удивился он. — Странно».
— «Баскин Роббинс» сгодится?
Улыбка сползла с губ. Она взглянула на Никки.
— Мороженое, — сказала Никки.
Лицо Сильвии вновь засветилось, и она кивнула.
— О’кей, — сказал Питер. — Идем.
Сильвия отдала горшок Никки. Питер подал Сильвии руку, после тягучей паузы она протянула свою и соединила свои пальцы с его. При этом прикосновении он почувствовал толчок тепла, а также некое более коварное, убаюкивающее чувство, словно все его тело немело снаружи. Внутри же возникали пульсирующие образы, впечатления и чувства, которые мелькали слишком быстро, чтобы их осознать. У Питера кружилась голова, он чувствовал легкое опьянение.
Они дошли до ворот, повернули на тротуар, прошли мимо торчавшего на углу Арта. Питер не стал смотреть на него.
Он заказал ей самую большую порцию, а себе двойной шоколадный рожок. Когда она отпустила его руку, чтобы дать ему расплатиться, он словно проснулся. Его охватила легкая паника. Что с ним происходит?
Еще одно дурацкое пари с Артом!
Она ела медленно, орудуя белой пластиковой ложечкой так, чтобы каждый раз во рту одновременно оказывалась смесь шоколадной подливки, ананасового сиропа, клубничного сиропа, трех разных сортов мороженого, несколько орешков и хлопьев. Взбитые сливки давно растаяли. Питер управился со своим рожком задолго до того, как она добралась до половины своей порции, и теперь он сидел и смотрел, как она ест. Она напоминала пчелку, ныряющую в мороженое, словно в цветок. В конце концов мороженое превратилось в лужу медленно перемешивающихся красок. Он смотрел, как она выуживает лакомства, как ее розовый язычок слизывает их с ложки.
Может быть, если бы он ничего не сказал, их свидание ограничилось бы созерцанием ее трапезы, а потом прогулкой до дома. Если она действительно была столь наивна, как утверждала Никки, то и не понимала, что что-то теряет. Дотрагиваться до нее он боялся.
Она положила ложку в раскисшие остатки мороженого и посмотрела на него. Слабый румянец окрасил ее щеки, и он впервые заметил очень бледные медовые веснушки у нее на носу. «Вот видишь», — сказала она. Голос у нее был низкий и теплый — песня без музыки.
Он ждал.
Она посмотрела на белую скатерть, затем на него.
— У себя в семье я никогда не оставалась одна.
С ним тоже всегда были Люк, папа, мама. Люк дразнил его. Называл неженкой, девчонкой и трусом. Отец спрашивал, почему он не может хотя бы немного походить на Люка. Мама обнимала его, когда ему не удавалось скрыть огорчения, но он научился обходиться без ее утешения; Люк использовал это против него. В доме было полно народу, но Питер всегда чувствовал себя одиноким.
Она вновь опустила глаза.
— Когда мне было два года, бабушка погадала на меня и сказала, что я возродилась с духом моей прапратети Ричи и что я буду шить и ткать для семьи, поскольку именно этим и занималась тетя Ричи, пока не умерла. И вот они стали прикладывать мне ко лбу памятные камушки тети Ричи каждый вечер перед сном, чтобы я вобрала в себя заложенные в них знания, они относились ко мне так, словно мне было сто лет, и они заранее знали, какие ответы я могу дать на любые их вопросы. В нашей семье так относятся к людям. Все считают, что человек превращается в какой-то орнамент, схему, замыкается в ней и не может действовать никак иначе. Никаких сюрпризов, ничего нового. Они дали мне схему и сказали: «Это ты».
Схемы помогали, когда он наконец осознал, что они существуют. Когда до него дошло, что ожесточенный спор с отцом является точным повторением другого, происшедшего две недели назад, что даже слова те же самые, Питер расслабился. Расстался с идеей достучаться до отца. Стал машинально повторять свою роль.
Помог в этом и Арт. Бывало, они курили украденные сигареты, сидя на верхних ветвях огромного дерева неподалеку от дома, и толковали обо всем этом с Артом, не слушая друг друга, но хотя бы выплескивая накипевшее. Что ты говоришь? А вот мой папаша…
Сильвия потрогала лацкан тонкого черного жакета.
— Я научилась любить ощущение нитки под большим пальцем, силу, с которой игла протыкает ткань; мне нравилось смотреть, как слабые пряди, сотканные вместе, образуют нечто нерушимое и как ножницы кромсают то, что нельзя разорвать голыми руками. За работой я была счастлива. Все остальное время у меня было ощущение, будто что-то не так. Мы все жили внутри друг друга и не могли разъединиться. Этого было недостаточно, и этого было слишком много.
«Люк, я горжусь тобой, сынок. Видишь, Питер? Это идет настоящий мужчина».
Люк в военной форме, с ежиком на голове, широкоплечий, разбитной, со своей полуулыбкой, которая заставляла девушек поглядывать на него с интересом. Люк, вернувшийся домой в гробу, покрытом флагом. Отец, у которого чуть не разорвалось сердце от горя, поникший и измученный, по утрам избегал смотреть на Питера.
«Я понял тебя, — думал Питер. — Тебе хотелось бы, чтобы на его месте оказался я».
— И я ушла из дома, — сказала Сильвия, глядя на него. Она протянула тонкую ладошку и положила ее на его руку. От нее исходило тепло и что-то еще.
— И я ушел из дома, — прошептал Питер.
— А они сказали: если уходишь, то не возвращайся, — сказала она.
Он перестал чувствовать кончики пальцев, но не потому, что они онемели от ее прикосновения. Скорее они просто каким-то образом исчезли, растаяли. Он ощутил морозный привкус одиночества, это был новый аромат; его собственное одиночество всегда отдавало колой.