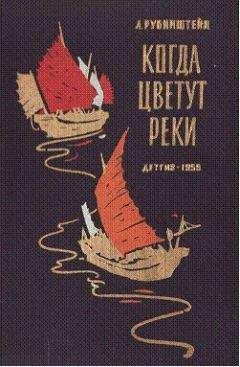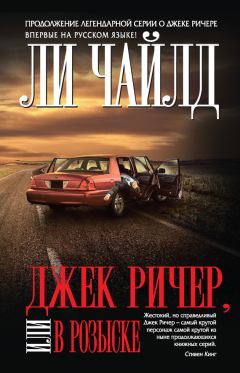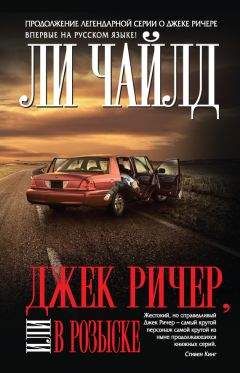Мария Семенова - Тайный воин
Ознобиша невольно скосился по сторонам:
– Только Лихарю, поди, вереды не велели…
Сквара громко фыркнул, спохватился, уткнулся носом в «Истолкование». На него самого девки смотрели этак надменно, словно знали тайну, о которой ему и догадываться не полагалось. Особенно та… чёрненькая, с кудряшкой. От книжных листов пахло выделанной кожей, скукой, плесенью. Сквара поднял голову:
– Что значит царственноравный?
Ответить было легко. Подстёгин сирота кивнул на лествичный толковник:
– Ведомо тебе, откуда весь андархский почёт вышел?
Сквара заулыбался:
– Откуда люди выходят… Из бабьей снасти!
Ознобиша моргнул и тоже улыбнулся, потом воздел палец:
– Ты слушай, раз спрашиваешь. У всякого, кто ныне боярин, даже ближний или введённый, давний праотец славно бился за праведного царя и был от него взыскан. Кто землями, кто путём, кто местом возле престола. Примером, Хадуга Пятого, угодившего под обвал, заслонил собой простой горец. Добрый царь возвеличил этого человека, а тот оказался верным Владычицы. Так прекратились…
Сквара зевнул:
– Я тебе про храбрецов, а ты мне про жрецов. Не знаешь, прямо скажи, я кого другого спрошу.
– А вот знаю!
Ознобиша замахнулся толстым хвалебником. Сквара вмиг нырнул под стол, выкатился с другой стороны. Бить его с некоторых пор стало всё равно что гонять текучий туман.
– Но за самые великие заслуги, – важно продолжал Ознобиша, – когда речь шла не о сломанной ноге, а о державе, героев увенчивали саном царственноравных. Чтобы сидели в совете Высшего Круга, носили малый венец и своились с праведной семьёй, рождая царевичей.
Сквара засмеялся:
– Поди-тко радость великая… А кто был Гедах Керт?
– Кто?..
– Гедах Керт. Царственноравный.
Брови Ознобиши ненадолго разделила отвесная складка.
– Вот такого правда не знаю. А… в лествичнике разве нету?
– Нету. Я уж всё перерыл.
Они опять уставились друг на дружку. Иные страницы из толковника были вырезаны. И основания отсечённых листов, подклеенные, опрятно зачищенные, напрочь отбивали желание спрашивать о причине поругания книг.
– Сведал-то где про него? – невольно глотнув, понизил голос Ознобиша. Перед глазами вновь пронеслись скомканные листки в кровавом снегу. Он вспомнил мольбу попущеника, спросил: – Керт, говоришь? Почему?
Сквара поддразнил:
– Всё тебе скажи…
– Ну и не говори!
– Я вниз лазил, в темницу, давно уже. Он про себя на стене выцарапал. Вот, я запомнил: «Всякий рождённый узрит впереди смерть…»
Ознобиша послушал стихотворение, с видимым облегчением опустил книгу:
– Это кто угодно мог написать. Запрут так-то, ещё чего похлеще с горя наврёшь.
Безупречная вязь на тюремных камнях не позволяла Скваре от души согласиться, но и свидетельством истины не была. Дозволенный светильник бросал тени на сводчатый потолок, на ряды книг, уходившие в сумрак и тишину… Скоро Ознобиша разложит в памяти все законы и порядицы Андархайны. Станет, наверное, учёным писцом в свите городского судьи. Получит новое имя. Может, сам в судьи выйдет со временем… Гадать о расставании хотелось ещё меньше, чем о колбасе, чей запах Опёнку мерещился до сих пор.
Некоторое время оба молчали. Потом меньшой Зяблик спросил:
– Кабальной наш… как, чулан ещё метами не исцарапал?
Сквара поморщился, вздохнул:
– Было бы что помечать. Который синяк от кого принял?
– Ты его ведь не бил.
– Мне его привести было велено, чтобы сам шёл. Я и привёл на тяжёлке. А бить не наказывали.
Дверь отворилась. Внутрь книжницы сунулся Воробыш:
– Лихарь по двору ходит!..
Лихарь в самом деле стоял во дворе. Первый раз за несколько седмиц. Бледный, исхудалый и очень злой из-за собственной немощи. Тёплый кожух висел на нём, как с державца Инберна снятый. Уж точно не помешал бы костыль, но гордый стень обходился. Пусть и с трудом. Он даже время выйти подгадал, когда Ветра в крепости не было.
Братейки поклонились ему, как подобало. Он головы навстречу не повернул. Этих двоих он, верно, рад был бы насовсем позабыть. Весть между тем распространилась, из поварни толпой вывалили приспешники, в свой черёд начали кланяться. Лихарь и на них посмотрел, словно те его отравить покушались, да не совладали.
– А уж свиреп… – давясь негожим весельем, шепнул Ознобиша.
Сквара вдумчиво кивнул:
– Почесать не может, где свербит.
Ознобиша согнулся, пряча распирающий смех.
Ветхий Опура, кажется, был единственным, кто в искреннем восторге побежал к стеню. По правой штанине до самой ступни расползлась влажная полоса.
– Лихарь! Юный Лихарь!.. – Старик оглянулся, ища, с кем поделиться радостью, заметил Ознобишу, просиял, указывая рукой. – А у нас маленький Ивень опять живёт! Смотри, вон он! Ты уж не казни его больше, сынок! Он добрый моранич! Он в Мытную башню вовсе даже не лазил!..
Ознобиша так и застыл. Лихаря перекосило. Он оттолкнул заботливо кудахчущего Опуру, вновь скрылся за дверью.
Лутошка лежал на боку, подтянув колени к груди. Когда он открывал глаза, ему представала полоска неяркого света на каменной кладке. Валунки, взятые с берега залива, были немного подтёсаны, чтобы плотней прилегали. Один полосатый, другой крапчатый, третий белёсый, с крохотными устьицами слюды… Все звенья нехитрого каменного узора Лутошка, даже зажмурившись, видел не хуже, чем наяву.
Он лежал не двигаясь, лишь изредка шмыгал носом и вздрагивал, а из-под век медленно точились слёзы. Чужие звуки и запахи больше не давали притворяться, будто он лежал дома, где-нибудь в клети или в собачнике. Лутошка очень старался замечтаться или задремать, но тут же дёргался, оживал, опять начинал тревожно слушать шаги. Потому что вовсе не дедушкин мягкий шептун ткнёт лодыря-внука, забывшего покормить уток. Через порог властно ступит безжалостный Беримёд и… и лучше встретить его уже на ногах, потому что в рёбрах без того сплела паутину застарелая боль. Снова запоёт жестокую песню чёрный ночной лес, и Лутошка будет бежать во весь дух, кидаясь от каждого куста, где ему померещится переимщик…
Он испробовал уже всё. Петлял оврагами и опасными ходунами, уповая на прыть. Бросал копьё под ноги, просил щады. Собирал последнюю отвагу, давал бой…
Только в сторону далёкого Киян-моря Лутошка больше не смотрел. Потому что из лесу его даже Пороша, не смея ослушаться Ветра, на своих ногах приводил. А вот если бы он в утёк повернул…
Широки распахнулись ворота во двор Владычицы. Зато обратно из кабалы – мышка не проскользнёт.
Один раз острожанин близко подошёл к заветной иверине. Запутал следы, почти удрал от Хотёна. Однако тот распознал хитрость, погнал в угон, полетел лётом – и взял беглеца уже в виду крепостных башен.
Ох, лаской вспомнились Лутошке отцовы да братнины кулаки…
– Успеешь охнуть, как придётся издохнуть, – сказала стена.
Лутошка невнятно вскрикнул, заслонился руками, задом наперёд пополз в дальний угол. Веки, под которыми вновь успели качнуться горелые ямы Великого Погреба, с горем пополам разлепились только потом.
– Вставай, дурень, – сказал дикомыт.
Из-за него выглядывал Ознобиша с самострелом в руках. Он деловито спросил:
– Куда сведём?
Сквара немного повернул голову, продолжая смотреть на Лутошку. Предложил:
– Наверно, в холодницу. Там никого нету сейчас.
Острожанин засучил ногами, плотнее вжался в угол, тихо завыл. Ну конечно, не рядом же с поварней им его убивать, после такого сквернения там хоть печи раскидывай и возводи наново. На Великий Погреб не поведут – далеко. А в холоднице они его примкнут на ошейник. Отойдут на тот конец просторной палаты. И затеют веселье, а он будет метаться на короткой цепи, пока последний болт в сердце не примет либо кровью не изойдёт…
Лутошка с такой ослепительной ясностью увидел неминучую гибель, что приготовился заорать в голос. Начал открывать рот…
– Хотя нет, – сказал Сквара. – Пусть на снеговике покажет сперва.
Стрелы, только что летевшие острожанину в грудь, вернулись с полпути, рядком улеглись в тул. Лутошка закрыл рот. Утёрся. Стал подниматься. Получилось не сразу.
– Тебя все, кто в воинском обучении, уже по разу ловили, – пока шли вон, объяснил Ознобиша. – Иные дважды. Чтобы вновь толк был, учитель велел тебе самострел дать.
– Стрелять-то умён? – спросил дикомыт. Фыркнул, глумливо добавил: – Или ты всё вилами больше?
Лутошка хотел ответить, даже посмеяться им в угоду. Его до того трясло, что вместо смеха вышло блеяние, звучавшее всё же больше как плач.