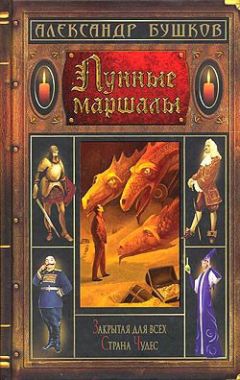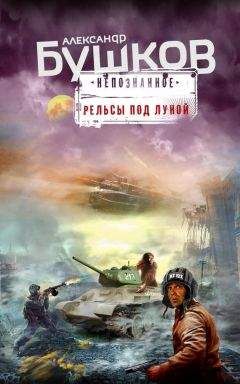Александр Бушков - Колдунья
Атласные белоснежные туфельки изрядно запачкались землей, но Ольга упрямо шла вперед. Далеко впереди, едва заметные в переплетении ветвей, двигались камергер с генералом.
Она остановилась как раз вовремя: оба подошли к невысокой стеклянной двери, которую тут же предупредительно распахнул перед ними ливрейный лакей — и моментально захлопнул, едва они скрылись внутри, а сам остался стоять, точно на страже, лицо у него сделалось напряженное и злое, ничуть не похожее на физиономию вышколенного слуги.
Дверь была из матового синего стекла, так что рассмотреть что-либо внутри не представлялось возможным. Заморочить неприятного стража соответствующим заклинанием, внушив ему, что он не видел, как Ольга прошла внутрь, и вообще все забыл? А если он… какой-нибудь такой? Не из простых свиней свинья, как мужики выражаются?
Она досадливо встряхнула головой: забыла, что идти за ними вовсе и не обязательно…
Отодвинувшись в сторону, так, чтобы ее совершенно скрыло пышное дерево, она привычно напряглась всем телом, всем рассудком и, оставаясь на месте, послала себя внутрь.
Ничего особенного там не оказалось — всего-навсего небольшая курительная комната с паркетным полом и парочкой причудливых кустов в широких приземистых кадках. Генерал сидел на диванчике, вертя в руках незажженную сигару, а камергер стоял перед ним, небрежно заложив руки за фалды парадного, со звездами, вицмундира и наблюдал за своим визави, пожалуй, даже весело.
— Не угодно огоньку? — осведомился он любезнейшим тоном, поднося к сигаре генерала вытянутый указательный палец, на конце которого ярко пылал желтый огонь длиной не менее чем в вершок.
Генерал был настолько погружен в свои раздумья, что машинально раскурил от этого огонька сигару и затянулся. Потом, опомнившись, вздрогнул, метнул на камергера неприязненный взгляд и пробормотал:
— Опять ваши шуточки…
— Ну что вы, — сказал камергер непринужденно. — Не шуточки, а мелкие бытовые удобства…
— Значит, и все остальное — ваших рук дело?
— Что именно?
— Бросьте. Вы прекрасно все понимаете.
— Помилуйте, о чем вы? — поднял брови камергер.
— Обо всей этой чертовщине, которая меня преследует третий день. И если бы только меня…
— Да, у вас вид невыспавшегося, изнуренного человека… — с той же светской непринужденностью кивнул камергер.
— Злорадствуете?
— Никоим образом. Просто констатирую факт. Я отчего-то полагал, что у вас, старого вояки, нервы окажутся значительно крепче…
— Да поймите вы, не во мне дело! — вскинулся Друбецкой. — Я в жизни видывал всякое, и чертовщину тоже. Если бы дело касалось меня одного, я бы справился, чихал бы я на все эти ваши видения, мохнатые лапы из-под кровати и утопленников с вытекшими глазами, что шляются по дому после полуночи… И на все прочее… Но ведь это обрушилось на жену и детей! Вы хоть представляете, каково им? Тут с ума можно сойти…
— Охотно верю, — кивнул камергер. — Впрочем, в наши планы вовсе не входит доведение до сумасшествия вашего семейства…
— Благодарю покорно! — шутовски раскланялся генерал. — Но если это будет продолжаться…
— Не хочу вас огорчать, но это будет продолжаться, — мягко сказал камергер. — Более того, вынужден с прискорбием сообщить, что главное, собственно, еще и не начиналось — так, предварительные репетиции… Сидите! — резко прикрикнул он, когда генерал попытался вскочить. — Будьте мужчиной, черт бы вас побрал… Неужели вы полагаете, что ваши крики и негодующее маханье руками хоть что-то в происходящем изменят? — Он безмятежно улыбался. — Разумеется, ваше превосходительство, у вас всегда остается возможность жаловаться. Отправляйтесь к обер-полицмейстеру, генерал-губернатору, а то и повыше — и сколько вам угодно жалуйтесь, что злонамеренный камергер Вязинский каждую ночь насылает на вас нечистую силу, каковая буйствует и бесчинствует в вашем доме, от подвала до чердака, пугает ваших чад и домочадцев, а посему вы просите власти принять к означенному камергеру самые решительные меры…
— Ну что вы насмехаетесь? Вы же прекрасно понимаете, что меня после этаких откровений упекут в смирительный дом!
— Вот то-то и оно, дружище, то-то и оно, — серьезно сказал камергер. — Упекут, невзирая на ваши титулы, чины и ордена. Такое уж столетие на дворе, прогрессивное и атеистическое, в нас, грешных, никто толком и не верит… Что дает невиданную свободу рук, согласитесь… — Он резко переменил тон. — Дражайший генерал, я вас умоляю, перестаньте заламывать руки, словно истеричная барышня из английского романа ужасов. Давайте поговорим трезво и взвешенно, как серьезные люди. Никто не собирается развлекаться. Вам просто-напросто продемонстрировали, на что мы способны… и могу вас заверить, что эта демонстрация не явила и сотой доли того, на что мы реально способны…
Генерал передернулся:
— Представляю себе…
— Не представляете, — сказал камергер. — Совершенно не представляете, это все были цветочки, а ягодки и в самом деле очень быстро могут свести с ума… Давайте о деле. Я вовсе не собираюсь заставлять вас вернуться в известное вам общество. В конце концов, вольному — воля… Но мне категорически не нравится, что вы предпринимаете недвусмысленные шаги к тому, чтобы выдать кое-какие известные вам замыслы и планы… Вы ведь уже начали предпринимать кое-какие шаги в этом направлении, готовить почву, не отпирайтесь. Рассказать вам, о чем вы говорили с Кирсановым, или передать полностью вашу беседу с генералом Берхгольцем? Вы крутитесь вокруг Тайной канцелярии…
— И даже ведет интересные беседы с нашим стихоплетом Алексеем Сергеевичем, — сказал тихо вошедший граф Биллевич. — Интригующие, я бы сказал, беседы… Ничего еще не сказано прямо, но господин генерал, тут и гадать нечего, определенно готовит почву для того, чтобы выложить всё…
— Я же не слепой, — сказал Друбецкой угрюмо. — Я прекрасно понимаю, что вы задумали. Не зря же вы принялись так обхаживать этого болвана Вистенгофа. Представляю, для чего вам понадобился флигель-адъютант императора…
— Ваша проницательность делает вам честь, — криво усмехнулся Биллевич. — Но сдается мне, что вы зарвались, милейший… В конце концов, что вам император? Отец родной? Совсем недавно вы хладнокровнейшим образом участвовали в заговоре, имевшем целью штыками свергнуть его с престола, а потом вдруг стали добропорядочным, словно немецкая булочница… Не будем толочь воду в ступе. Назовем вещи своими именами. Вы человек умный и прекрасно уже понимаете, с кем столкнулись. Против обычных заговорщиков у вас, согласен, были бы все шансы… но не против нас. — И помолчав, он продолжал деловито, сухо: — Давайте расставим все точки. Если вы еще хоть единым словечком попробуете кому-то хотя бы намекнуть о том, что вам известно, против вас будут играть всерьез. Понимаете? Всерьез. И дело кончится вовсе уж печально, добро бы для вас одного, но ведь и для всего вашего семейства… Разумно ли ради каких-то притянутых за уши принципов рисковать родными и близкими? Ни один император не в состоянии вам их вернуть, не забывайте… Я не собираюсь уговаривать вас, словно красну девицу, я просто-напросто рисую вам безрадостные перспективы, способные воспоследовать в том случае, если вы проявите упрямство. Или вы полагаете нас людьми, способными пугать напрасно?