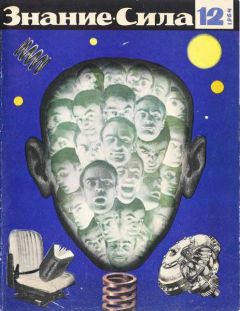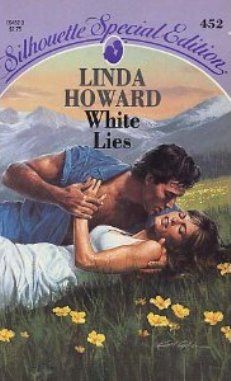Владимир Лещенко - Девичьи игрушки
– Зер-рно Пр-роше! – подтвердил ворон.
– Ну-ну! А сам где был с прислугой?
Сделал кабатчику знак, чтоб тот поднялся с пола. Селуянов, кряхтя и охая, стал на ноги.
– На том берегу обретались, – пояснил. – Помогали свояка моего хоронить, царствие ему небесное…
Троекратно перекрестился на образа.
– Постой… – оторопел поэт. – Это какого такого свояка? Не Василья ль Иваныча Кандыбина?
– Его самого, – печально подтвердил кабатчик и снова перекрестился.
– Да когда ж он помереть-то успел? Ведь на прошлой еще неделе был здоров-здоровехонек?
– То-то и оно, – вздохнул Никодим Карпович. – Все под Богом ходим, не ведая, когда придет последний час и вздох наш…
– И что ж приключилось, объясни ты толком! – потребовал взволнованный Барков.
Весть о кончине гостеприимного пекаря неприятно поразила поэта.
– Утоп, – коротко молвил хозяин.
– Где? Как?
– Провалился в прорубь. Против самого своего дома.
– Спьяну, что ль?
Селуянов покачал головой.
– Лекарь сказал, что вроде как тверезый был. Будто бы головой о что-то ударимшись, потерял равновесие и упал в воду. Там и захлебнулся.
– Так его лекарь освидетельствовал? – заинтересовался Иван, прикидывая, что надо будет расспросить этого медика.
– Ага, вместе с нашим приставом. Немчином.
О, и барон тут как тут. Уже легче. Можно и у него сведения раздобыть по старой дружбе.
Неясно что-то с этой смертью. Утонул, а перед этим получил удар по голове. Ой, темно. Словно кто концы обрубает, устраняя ненужных свидетелей.
Уж не сам ли преосвященный Варсонофий руку приложил? Так грешно ведь душегубствовать. Или во имя веры не грех? Не так ли твердят инквизиторы?
– Добро, – подытожил господин копиист, обращаясь к кабатчику. – Розыск проводить не станем, а учиненный в комнате погром пойдет в уплату за мое здесь проживание…
Селуянов обреченно кивнул, в мыслях прикидывая убытки.
– И столование… – не дал ему опомниться поэт.
– Э-э-э… – попробовал восстать падший, но, уловив негромким шепотом произнесенное «слово и дело», кивнул и во второй раз.
Чудные дела сии следовало хорошенько обмозговать. И желательно не насухо, а в компании с полуштофом, а то, гляди, и с целым.
Поэту отчего-то всегда хорошо думалось не где-нибудь, а именно в кабаке. Чему дивиться, ведь он и был «кабацким певцом», как его презрительно величали собратья по перу.
Иному стихотворцу необходимо уединение, слияние с природой, полная тишина. Чтоб не слышать никого и ничего, кроме музы. Тогда вирши текут гладко, складно, словно песня.
А вот ему нужны были шум и гам. И непременно запах сивухи, лука и селедки. Иначе – беда. Иначе не выходило ничего, кроме хвалебных од в духе Михаилы Василича Ломоносова либо переводов. Тут да, тут нужен трезвый ум и безмолвие. А то напишешь что не так, навлечешь на себя гнев высокого адресата или насмешки ученых коллег. «Что ж это вы, любезный Иван Семенович? Ай-ай-ай, батенька, да как же можно было этак-то сей пассаж Горациев истолковать? Не о том пиит толкует». И прослывешь неучем, невеждой.
Те же потаенные вирши никак невозможно было сочинять в кабинетах. Душа рвалась на волю. Туда, где обитали герои его стихов.
Само собой, речи не могло быть, чтобы засесть в «лондонской» харчевне. Постная рожа господина Селуянова не будет способствовать мыслительному процессу. Нужно завалиться в какое-нибудь иное заведение.
Заодно и владыку Варсонофия навестить не мешает.
Пожаловаться вряд ли удастся. На кого он сошлется в своих подозрениях? На говорящего ворона? Смешно.
А вот просто напомнить о своем существовании, понюхать да присмотреться стоит. Глядишь, чего и прояснится.
Как повод для визита решил использовать привезенные из Белозерья рукописи. Дескать, после прискорбного происшествия с разгромом его комнаты неизвестными он не решается хранить у себя такие ценности. Пусть полежат до его отъезда в канцелярии преосвященного под присмотром. Чай, не откажут. Все-таки церковная собственность.
Вот только возникала проблема: до этого посещения идти в кабак или после? Негоже вроде как навеселе к владыке на подворье переться. Но душа горела, требовала своего. А голова без подогреву так вовсе работать отказывалась.
В любом случае, шкалик для храбрости пропустить никогда не лишне. Да закусить получше – ни один нос не унюхает. А ужо после можно и заветный полуштоф приговорить.
Решено.
Отраду шумного народа,
Красу дражайшия толпы
Воспой в крыльях и губнах, ода,
Внемлите, блохи, вши, клопы,
Рассейтесь ныне, мысли пьяны.
О! ты, что рюмки и стаканы,
Все плошки, бочки, ендовы
Великою объемлешь властью,
Даешь путь пьяницам ко щастью
Из буйной гонишь страх главы.
Кабак был не очень. Так себе. Даже дрянной.
Или это Ивану просто показалось от дурного настроения и заведение было самым что ни на есть обычным? Может, и так, да поди ж теперь разберись, когда на душе сделалось гадко.
А ведь всего-то и увидал, что двух собак, неспешно трусивших вслед за ним вдоль по улице. Эка невидаль – собаки. Но вот в чем загвоздка. Псы были рыжей масти. Точь-в-точь такие, как и на постоялом дворе Клопа. И до жути напоминали тех, что напали на его кибитку под Фарафонтовым монастырем.
Цыкнул на них, чтоб отвязались. Да где там. Ощерились, окаянные, и глазами посверкивают. И снова непривычно молчат, будто кто им языки урезал. Поднял со снегу палку, погрозил зверюгам, а потом и кинул. Не попал. Им же все едино. Бегут себе и бегут, не приближаясь вплотную, Но и не отставая.
Поэт и шастнул в первый попавшийся трактир.
Грязно, неуютно и не людно. Совсем не то, что ему было надобно.
Однако ж идти назад, на улицу, не хотелось. Так что пришлось довольствоваться синицей в жмене.
Уселся за дубовый стол у стены.
Тут же подлетел слуга и спросил, чего господин хороший изволит. Услышав, что всего-навсего косушку с соленым огурцом, паренек сделался скучным. Невелик навар будет. И все же поторопился принести испрошенное. Поставил перед посетителем и, отойдя шага на два, хмыкнул себе под нос. Не мужской заказ. Такому здоровому детине да какой-то шкалик. Полчарки – это ж на один, много на два глотка. Сей же фертик вертит рюмку в руке, нюхает, зачем-то на свет смотрит. Будто какое дорогое заморское вино пьет. Или кофей. Странный барин.
У Ивана же просто пропал аппетит на выпивку. Раз – и отрезало. Больше того, самый запах оковитой вызывал отвращение и тошноту. Он раз за разом подносил водку к устам и снова и снова ставил шкалик обратно на стол.
Надо бы чего порезче, чтоб прочистило, а не задурило ум.
Щелкнул перстами, подзывая полового.