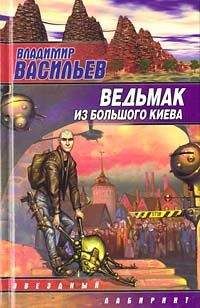Владимир Васильев - Атлантида
— Где я?
— Где я?!
— Где я?..
— Открой глаза…
Вот уж этому приказу Шекких подчинился с удовольствием. Тяжело смотреть, как добродушный весельчак лекарь враз становится печальным и так старательно отводит взгляд, будто опасается тебя им испачкать? Может, и тяжело. Но все лучше, чем странствовать в темноте, наполненной исходящими из ниоткуда голосами.
— Что, совсем плохо дело? — осведомился один из эльфов.
— Могло быть и хуже, — сипло ответил лекарь, и по комнате разнесся с новой силой чесночный запах. Пальцы лекаря задвигались в воздухе — не то отгоняя прочь особенно сильные ароматы, не то изображая, насколько именно хуже могло бы быть.
А вот и нет, свирепо думал Шекких, покуда лекарь разъяснял обеспокоенным эльфам, что произошло с их боевым товарищем. Хуже ничего не могло случиться. Худшего он себе не мог бы представить, даже если бы очень постарался. Или мог бы… конечно, мог бы… но отчего-то самые мрачные возможности по части собственной судьбы не вызывают сейчас у Шеккиха ничего, кроме вялого равнодушия. Зато постигшее его несчастье пробуждает в нем неимоверную ярость. Какое ему дело, что могло быть и хуже — довольно уже и того, что сейчас все скверно, и впредь будет скверно! И лекарь тоже хорош — ну как есть ничего не понимает. Боль, видите ли, скоро пройдет и возобновляться будет нечасто. Нашел, чем утешить, клистир скрюченный! Да хоть бы она и усилилась — что с того? Как-нибудь Шекких сумел бы притерпеться… сейчас, конечно, с трудом верится, что можно до скончания дней терпеть нечто подобное, но он-то знает, что притерпелся бы. Нет, не боль… пес с ней, с болью… ты бы лучше сказал, пластырь ты ходячий, как дальше жить с этаким калечеством? Ловец черных магов, разведчик-диверсант, неспособный определить направление звука. Нет, не глухой — хуже, чем глухой! Обреченный блуждать в лабиринте голосов… не зная даже, куда обернуться на дружеский оклик… что уж о врагах говорить! Отныне и навсегда — не лесник, не охотник, не разведчик, не солдат — кусок мяса, который ест, пьет и спит.
Охватившую его ярость Шекких не выразил ничем. Он лежал молча, не стонал и не сопел даже, когда его многострадальную голову обматывали повязкой, пропитанной целебным отваром. И лечебную настойку проглотил безропотно, нимало не жалуясь на ее гадостный вкус — даже не поморщился, когда край кружки коснулся его приоткрытых губ, и гнусное зелье полилось ему в глотку. И когда эльфы пичкали его своим бальзамом, тоже ни слова не сказал. Лекаря его безразличная кротость ничуть не успокоила, скорей уж встревожила. Он внимательно посмотрел на Шеккиха, будто собираясь сказать ему что-то важное, но так ничего и не сказал, только заерзал шеей с такой силой, словно собирался счесать кожу с затылка.
Когда эльфы, а с ними и лекарь наконец-то пожелали Шеккиху скорейшего выздоровления и ушли, тихонько притворив за собой дверь, он мысленно усмехнулся — на настоящую усмешку сил недоставало. Друзья — это очень хорошо, это просто замечательно… тот, у кого никогда не было друзей, считай, что и не жил вовсе… так пристало ли человеку радоваться, когда друзья уходят? Да, но вместе с друзьями уходят и их голоса, звуки их шагов, звон оружия и шорох одежды… и остается только тишина. Ничем не наполненная тишина. И звуки не скачут от стены к стене, как ополоумевшие мячики. И не грохочут в голове пьяные колокола. И можно закрыть глаза, а потом снова открыть их, медленно-медленно, чтобы взмах ресниц не спугнул тишину. А потом смотреть в потолок… ведь это же так приятно — смотреть в потолок… он ведь совсем такой же, как и до контузии… восхитительный в своей неизменности потолок… смотришь на него и говоришь себе, что ты тоже совсем не изменился — прямо как этот потолок… что не было никакой контузии, а мучительная боль, страдания, противный привкус лекарства во рту — просто так, понарошку… что ты все еще прежний… и останешься прежним… и жизнь твоя будто бы и не поменялась бесповоротно… лежать и смотреть в потолок… и ничего, ничего не слышать, чтобы не проснулось то страшное, что так самовластно распорядилось твоей судьбой и твоим телом. Потому что это тело теперь уже не только твое. Оно принадлежит еще чему-то… или кому-то… кому-то упрямому и зловредному… кому-то, кто задался целью мешать тебе, причинять боль. До сих пор ты никогда не болел — а теперь ты меченый. Меченый болезнью — а значит, и смертью.
Мерзко, мерзко думать о смерти — лучше уж думать о тех, кого она успела похитить. Вспоминать, какими они были при жизни. Внезапно Шеккиху представилось лицо его бабушки. В паутине трещинок на потолке проступили морщины, сам собой возник пристальный взгляд — Шекких даже смигнул, но видение не исчезло. А он-то думал, что и вовсе забыл ее за давностью лет. Оказалось, все он помнит — и проницательную улыбку, и скрюченные старостью пальцы, и шаркающую ревматическую походку, и даже обыкновение вставать с места со словами: «Ну я ж тебе, мерзавке, покажу!» Странные шутки шутит память с человеком! Слышал эти слова Шекких несчетное количество раз — а понял их только теперь. Мальчиком он дивился, отчего бабушка постоянно беседует сама с собой, да еще и честит себя мерзавкой… но она разговаривала не с собой! Она говорила с той мерзостью, которая захватила ее тело, отторгла, сковала, цеплялась изнутри за суставы, мешала ходить, сидеть, стоять… со старостью, болезнью — вот с кем она говорила! С ненавистным врагом, которого надо одолевать ежечасно, ежеминутно, каждым шагом, каждым вдохом. Не дать этому врагу торжествовать над собой. Пожалуй, бабушка Шеккиха была лучшим бойцом, которого он только знал: до самой своей смерти из своей беспрерывной схватки она выходила победителем.
Забавно даже… неужто старенькая бабушка — лучший боец, чем он сам? А ведь так оно по всему и выходит. Правда, у него нет опыта подобных боев, а у бабушки подобного опыта было с лихвой, на троих таких, как Шекких, наберется. Да и мудрости у нее было хоть отбавляй. В детстве Шекких только рот кривил, когда бабушка бралась учить его уму-разуму… теперь бы послушать ее ехидные сентенции и странные притчи!
А притчи, и точно, были странные. Взять хоть эту историю про одноногого бегуна. Кто не слышал сказки о человеке, который мчался быстрее ветра — да-да, том самом, что передвигался на одной ноге, а другую подвязывал? Сказочный бегун и на одной ноге передвигался быстрее, чем все прочие — на двух, и ногу подвязывал, чтобы, сделав пару шагов, не убежать нечаянно на край света. А вот бабушка утверждала, что знавала этого бегуна, И что ногу он подвязывал не для того, чтоб уберечься от последствий своей волшебной быстроты, а совсем по другой причине. Просто отнялась у него эта нога, вот и весь сказ. Причем бабушка говорила, что бегуном он тогда только и заделался, когда остался при одной ноге. Раньше-то он бегал не быстрее прочих, резвостью особой не отличался. А вот как стряслось с ним несчастье, бедолагу злость разобрала: как, мол, это так, да неужто ж я больше никогда ходить не буду? Нет уж, врешь — буду! Не ходить — бегать буду! А если кто не верит — утрись, почтеннейший… а я все равно буду, вот тебе же назло и буду! Это уже потом про него сказки слагать стали… а со временем и вовсе забыли, почему бегун — и вдруг одноногий. А поначалу ему ох как неласково пришлось. Шаг — и носом в пыль, другой — и опять мордой в лужу, а то ведь и о камешки… небось, к тому времени, когда калека стал бегуном, у него на роже больше мозолей наросло, чем на пятке: легко ли эдак оземь грохаться?