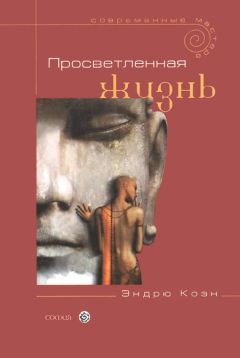Роман Светлов - Гильгамеш
— Правда. Мне были предназначены бедра и печень, меня почтил молитвой и коленопреклонением вождь Урука. Что удивительного? Ты, Энлиль, вопрошаешь так, словно ищешь виновного: а ведь я каждый день прохожу над Уруком и, если Инанна давно уже покинула свой трон над Кулабом, то я остаюсь с этим городом. Каждый день я одариваю его теплом, холю и лелею — что постыдного? Урук — мой любимый город, я поднимал его вместе с Инанной, в жилах его правителей течет моя кровь!
— Мы не говорим о виновных, Уту. Виновных ищут, страшась угрозы, а какая может быть угроза от человека? Нет, не угроза — потеха! Он сравнивает себя с тобой, Уту!
Энлиль хохотал — и боги вторили ему, вначале нерешительно, а потом все более весело. Отсмеявшись, они вздохнули и земля гулко вздрогнула от этого усталого, удовлетворенного вздоха.
— Поклоняться одному Солнцу! — громоподобно продолжил Энлиль. — Пусть! Уту, мы потешимся вместе, когда он возьмет в руки нож, подобный твоему… Но пусть потеха будет полной! Урукцы жалуются, что никто не в состоянии положить предел его силе. Найдем ему игрушку, сделаем богатыря, что будет силой равен Гильгамешу — и посмотрим, потешимся!
— Богатыря?! — воскликнула Инанна. — Богатыря! Красавца, высокого, как гора, и беспощадного, словно молния! Я уже вижу его — огромного, тяжелого!
— Ох-хо-хо! — зашелся в смехе влажный Энки. — Найдите светлой Инанне мужчину, она опять хочет жениха! Пусть наша звезда утреннего восхода спустится на землю — там богатырей много.
— Да, Инанна, мы не жениха будем создавать, а силу, что схлестнется с Гильгамешем. Мы вылепим быка, который начнет бодать другого быка, — ровно и мягко молвил Энлиль. — Им не нужна будет приманка, они сами найдут друг друга и примчатся, как мчатся орлы над всей степью ради того, чтобы с шумом ударить крыльями, вонзить в грудь ненавистного врага когти. Люди забудут о своих делах, когда эти двое силой начнут гнуть силу. Красное пиво потечет из их ран. Тогда, только тогда ты, Инанна, бросишься на землю, вылакаешь все шипящие алые капли — и урукцы падут в объятья сестер-блудниц. Мы же увидим все, мы будем пить черное пиво, пить во славу твоей славы и во славу победителя!
Возгласы одобрения, звонкие и радостные, пронеслись над лазуритовыми небесами. Дождавшись, когда боги закончат изъявлять радость, Энлиль — неясный обликом и порывистый как ветер — приказал Игигам:
— Позовите сюда матушку-Нинмах, мою супругу, лепившую людей. Пусть она сделает нам героя — но не человека, а Силу, не красавца, но Богатыря. Пусть Нинмах возьмет в свое сердце образ бога. Не кого-либо из нас, а самого древнего — Ану. Ану, которого увидеть трудно, Ану, помнящего дом, в котором он, Небо, жил вместе с Землей. Пусть Нинмах наделит этот образ древней силой, а ты, Энки, поможешь ей, соберешь самую синюю и самую красную глины — дабы тело богатыря не уступало крепости стен, возводимых Гильгамешем. Сделайте нам героя, силой и обликом такого древнего, что у людей начнут стынуть зубы при его виде. Вот тогда посмотрим на Гильгамеша, посмотрим и потешимся над ним — над урукским Большим и над тем, кого ты, Энки, поможешь слепить Нинмах. И еще — дайте ему имя громкое и твердое, как гром. «Энкиду»— вот как его станут именовать: «Созданный Энки»— Энкиду!
К западу от Урука почва становилась суше, солонее, уже в одном дне пути на закат нельзя было высаживать пшеницу. Цепочка затхлых, узких, редко поросших чахлой болотной травой озер — то ли останки древнего канала, то ли доисторическое русло Евфрата — отделяли плодородные земли от неприветливых солончаков. Зато дальше, на самом краю степей и пустынь, существовало множество оазисов жизни.
Плоская равнина черноголовых начиналась резко, неожиданно: холмистая степь завершалась обрывом, высотой доходившем до трех десятков локтей. А там, под обрывом, среди казавшихся из-за обильных испарений расплывчатыми болот, лугов, полей и жили шумеры. Край обрыва проточили весенние ливни, он был изрезан оврагами и складками. Черноволосые, опасавшиеся резких изгибов земли, называли этот обрыв «малыми горами», прекрасно зная, что далеко за закатной пустыней есть настоящие горы.
У подножия обрыва и находились оазисы жизни. Прямо из покатых стен били родники. Они образовывали короткие протоки, завершавшиеся заводями, густо укрытыми тростником. Вокруг росли напоминающие далекие закатные кедры можжевеловые деревья, росли плакучие ивы, тамариск, кизил. Звери любили здешние водопои — и лев, и тонконогая антилопа, и круторогий тур, и степная лисица шли тайными тропами через всю степь, чтобы отведать сладкой водички, текущей из стен обрыва.
Водопой любили звери, водопой любили и охотники. Если хорошенько затаиться, если выждать и вытерпеть, можно приносить в кладовые храма Кулаба полные сумы дичины. Охотники ежедневно подавали к столу Большого свежее мясо. Большой любил дичину. Он ел сам, кормил челядь, бросал жирные куски прирученным тростниковым котам, шипевшим на всякого, кто входил к хозяину. Довольны были и простолюдины — им свежая дичина доставалась только по праздникам, зато каждый день строители стены получали тонкий, но длинный ломоть сушеного или вяленого мяса. Во всех землях черноголовых не ели столько мяса, сколько в Уруке при Гильгамеше. Может быть, благодаря ему и стал Большой Большим. Может быть, благодаря ежедневному мясу и решились урукцы на такое: оградить свой город стенами.
Охотники уходили к краю пустыни на несколько дней. Каждый из них имел свой собственный водопой: они действовали поодиночке, им не нужны были загонщики, только терпение и верная рука. На охотников смотрели даже с завистью: они были сами по себе, их милостиво принимали в храме правителя, даже на строительство стены не призвали ни одного охотника. К зависти, однако, примешивалась опаска: горожане не стремились определять своих сыновей в охотники, ибо те ходили по краю обжитого мира, там, где жило только дикое, неизвестное зверье, да еще, говорят, безымянные демоны-чудища, о которых можно рассказывать только шепотом, причем не в любое время дня. Иногда охотники приносили такие истории, что волосы у черноголовых вставали дыбом, и они с благодарностью вспоминали Энки, положившего границу пустыням и горам. Иногда охотники не возвращались; их смиренно ждали половину лунного оборота, после чего несколько человек отправлялись к водопою исчезнувшего, чтобы вернуться с останками, обрывками неизвестно кем загубленного человека, либо же — с пустыми руками и опасливыми предположениями о том, что с ним случилось.
Охотник Зумхарар сам бывал в экспедициях за останками, сам выдумывал небылицы о гигантских птицах, унесших его исчезнувших товарищей, но как-то не относил все эти истории к себе. Он был удачлив: в самые неподходящие для охоты, «тощие» времена года он умудрялся приносить дичину, получая похвалу от служителей Кулаба, знаки внимания — от служительниц. Зумхарар обильно потчевал своего ангела кровью водяных курочек; не забывал он Энки, Уту, Инанну, владыку гор Сумукана, благо что храм частенько богато одаривал охотников. Укрываясь приношениями от всяческих бед, охотник верил в удачу и никогда не брал с собой просяных лепешек больше, чем на три дня. Он знал, что дичь придет уже на первое утро.