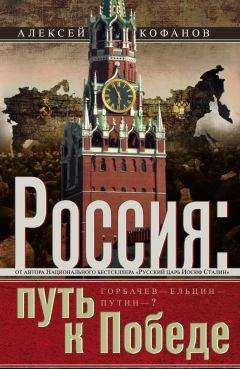Виктор Телегин - Гарри Поттер и Лик Змеи
А столица империи - это Петербург, о нем только разговоры. “А слыхали, в Пемтембургу - то фонари газовые по всем улицам поставили?”.
-Поедешь в Петербург, в лицей, - сообщил papa двенадцатилетнему Alexzander”у, - черноволосому, низкорослому подростку, со скошенным по-обезьяньи лбом и едва заметным подбородком. Кроме явной уродливости Alexzandr”а бросалась в глаза, заставляя выделить его из толпы - и непомерно большая для его возраста грушеобразная шишка, вырисовывающаяся под панталонами.
Александр представил на мгновение каменные красоты столицы, ее дворцы, памятники и площади, но еще страстнее, - хотя и не так отчетливо, - петербургских красавиц, наперебой раздвигающих перед ним свои прелестные ножки. И залился счастливым смехом!
-Ах, спасибо, папа, - крикнул он по-французски. - Я так давно мечтаю о Петербурге.
-Но, дружочек мой, - растрогался papa. - Лицей-то расположен не в Петербурге, а в Царском Селе.
-Ах, это еще лучше, - закричал Александр, бросаясь на шею отцу. (Его живое воображение вдруг нарисовало картину - он ебет саму царицу!)
-Но-но, Alexzander, - шутливо отбивался papa. - Этот содомит Лефанж привил тебе дурацкую привычку целовать в губы. Да еще с языком! Перестать!
Александр оставил отца в покое и со всех ног побежал вверх по лестнице, собирать свои немногочисленные пожитки. Прыгая через две ступени, он напевал: “Лицей! Я еду в лицей!”.
Г. 3 Стоны нарастали…
Сопроводить Alexzander”а в лицей вызвался дядя Baziley. Одутловатая, красная физиономия Василия Львовича с обожженными ноздрями, синюшными тонкими губами выдавала завзятого кокаиниста и яростного поклонника вагины. Собственно, дядя Baziley так загорелся идеей “отвезти племяша в Пемтембург”, не в последнюю очередь от желания посетить одно знакомое местечко в Козихинском переулке, где в окне второго этажа денно и нощно горит красная лампадка… О, столичные бляди! Вы не чета московским гетерам, не умеющим как следует обиходить мужское хозяйство! Петербурженка впивается в хуй так отчаянно, точно от капли молофьи, канувшей ей в рот, зависит ее жизнь.
Ехали долго, в тряском тарантасе. Alexzander чувствовал себя скверно, часто перегибался через дверцу кареты и долго, мучительно блевал. Через несколько лет у него выработается великолепный иммунитет на русскую дорожную тряску, подобную морской качке, однако сейчас Саша был вынужден исторгать из себя съеденный “на дорожку” пирог со щучьей икрой. Дядя Baziley был недоволен состоянием племянника, обзывал его “бабой” и “тряпкой”. Alexzander отмалчивался, думая про себя: “Зато я лучший стихотворец, чем ты… И хуй у меня будет больше, чем у тебя”.
Проехав Бологое, решили остановиться на ночлег. Заспанный станционный смотритель, поняв, что перед ним не “енерал”, вел себя нагло, втридорога запросил за овес, кровать предложил одну на двоих; Семена - кучера и вовсе определил на конюшню.
Дядя Baziley долго визгливо кричал на смотрителя, грозился карами земными и небесными, но, не проняв того ни на йоту, повалился на кровать - как был, в дорожном камзоле и сапогах, и, отвернувшись к стенке, захрапел. Саша примостился рядом. Смотритель погасил лампаду и полез на печь.
-Не спишь, Ефросья?
-Чего тебе?
Заспанный бабий голос звучал недовольно.
Alexzander жадно прислушался к начавшейся на печи возне. За возней послышались негромкие стоны - грубый мужской и тонкий - женский. Мозг Саши облился горячим и он сунул руку в панталоны.
Стоны нарастали. Alexzander яростно тер рукой головку красного богатырька.
Баба по-собачьи взвизгнула.
Все стихло, только слышался храп дяди Bazileя. Саша вынул мокрую руку из панталон.
Дядя Baziley вдруг перестал храпеть:
-В Пемтембургу, племянничек, пойдешь со мной. Нехер понапрасну разбазаривать семя.
В Пемтембургу было прохладно. Прохладно и … каменно. Еще здесь было желто. Почти все дома окрашены в канареечный цвет.
Тарантас протарахтел по мостовой, въехал на набережную Саша жадно глазел на непонятную столичную жизнь. Мерили трохтуары длинноногие щеголи, словно букеты цветов двигались красавицы, зазывали покупателей торговки, ваньки на тощих кобыленках ждали седоков - кипела жизнь! Все здесь было нарядней и праздничней в сравнении с Москвой. Даже вороны на колокольнях каркали веселее.
-Семен, давай на Мойку, - высунувшись из коляски, коротко крикнул Василий Львович.
-Какую к хуям Мойку, - пробормотал сквозь зубы конюх. - Ебу я, где Мойка. Тпррру!
Он остановил коляску в переулке рядом с телегой, на козлах которой дремал ванька.
-Слышь, отец, - обратился к извозчику Семен. - Как проехать на Мойку?
Ванька зевнул, протер глаза.
-Откудава? - спросил он первым делом.
-С Москвы. Так как?
-Вот чичас прямо, потом свярнешь, там будя Палицейски мост, а за ним уж Мойка.
-Сворачивать-то налево или направо?
-Ась?
-Налево или направо?
-Туда, блядь, - озлобился ванька, махнув рукой налево. - Дубина московская.
-Спасибо, отец, - засмеялся Семен и ожег коренную кнутом.
Гл. 4 Aiguiser votre khui [1]
Грязную “трешку” (так сказали бы далекие потомки Alexzandera) снял для дяди Bazileyа с племянником Александр Иванович Тургенев, тучный столичный шеголь, которому бы играть Пьера Безухова, когда б в то время придумали синематограф. В отличии от беспокойного искателя правды Безухова (в коем, впрочем, больше авторского толстовства, нежели подлинной характерности), Тургенев плотно стоял на пути порока, нежился в объятиях всевозможных элен, без зазрения совести запуская толстый палец в их благоухающие вагины.
Дядя Baziley с утра и до самого вечера 8 августа 1811 года писал стишки (которые Alexzander считал безнадежной дрянью). Когда старик - слуга зажег свечи, приехал Тургенев.
-Basile Leonovich, a ce jour servir la muse?[2] - весело спросил он у склоненной спины дяди Baziley.
-Affutage de la plume, M. Tourgueniev, aiguise stylo[3]. - оглянувшись, пробасил дядя Baziley.
Молодой человек прошелся по комнате.
-Tenez, mon cher Basil. Il est temps. Sophia Astafevna, je crois, est maintenant bien aiguiser votre khui. [4]
-Vous croyez?[5]
-Je suis sur. J’ai entendu dans une institution, un ane nouvelle. Ils disent tellement mignon![6]
-Il s’agit d’une grande![7] - дядя Baziley отбросил в сторону перо и поднялся. Под панталонами у него топорщился мужчина.
Тургенев захихикал.
-Mais, ma chere, il est impossible pour nous de prendre Alexander. Il semble que le garcon s’est reveille un homme. Tout a l’heure qu’il se masturbait, couche avec moi au lit.[8]
Александр Иванович оскалил гнилые зубы.
-Pourquoi, mon cher. Je pense que M. Alexander etait deja temps de manger la pizda.[9]
-Эй, дражайший, - перейдя на русский обратился к слуге дядя Baziley. - Позови-ка барчука.
-Позови-позови, - бурча под нос, старик поплелся из комнат. - Он, небось, дрыхнет, из пушки не добудишься.
Василий Львович повернулся к молодому развратнику.