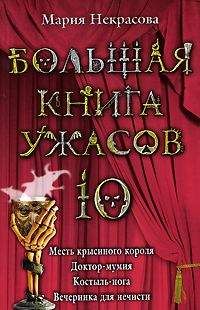Константин Соловьев - Геносказка
— Это все Мачеха… — сказала Гретель тихонько. — Ты же знаешь, братец. Это Мачеха захотела нас сгубить. Отец не виноват. Пошли домой. Пожалуйста. Мне страшно.
В лесу делалось все темнее. Небо еще было серым, но стремительно мутнело, утрачивало прозрачность. Еще час или два — и темнота обрушится со всех сторон, заперев детей в Железном лесу, окружив их шипами, зубами и невесть чем.
«Мне тоже, — подумал Гензель. — Мне тоже страшно, сестрица, только говорить об этом вслух я не буду, чтобы тебя еще больше не перепугать».
— Ну пошли, наверно, — сказал он нарочито небрежно. — Один раз выбрались, значит, и в этот раз дорогу найдем, верно я говорю? Покажи-ка своих проводников…
Гретель запустила руку в карман передника. Когда ладонь разжалась, на бледной коже можно было рассмотреть несколько предметов. Каждый из них размерами не превышал желудь, но на крохотной ладошке Гретель выглядел большим. Бесформенные комки каши — вот первое, что приходило на ум Гензелю.
Белесая рыхлая плоть, едва заметно шевелящаяся, из этой плоти торчат короткие отростки, но явно слишком немощные, чтобы передвигать непомерно большое тело. Кажется, были и глаза, по крайней мере Гензель в сумерках разглядел на диковинных «желудях» крохотные точки. Впрочем, насчет глаз — это едва ли. К чему им глаза?.. Гретель никогда не создавала ничего лишнего. С глазами или без, а выглядели они не лучшим образом. Складки плоти подрагивали, отростки бездумно шевелились, а разбухшие тельца едва заметно вибрировали. Какие-то опарыши, подумалось ему, только беспомощные и несуразно большие.
— Какие противные! — не сдержался он. — Неужели нельзя было сделать их более… ну…
Гретель лишь пожала плечами.
— Это же просто катышки. Они не для красоты, они простенькие совсем. Ни думать не умеют, ни двигаться.
— Еще не хватало, чтобы двигались эти твои… катышки! Еще уползут к черту на рога, вместо того чтобы на месте лежать, там, где их кинули. Светиться-то ночью будут?
— Будут, — кивнула Гретель. — Я в чулане проверяла, светятся как лампочки в ночи. Они днем от солнышка тепло запасают, а ночью его высвобождают… Это нетрудно совсем, я давно так умела.
— Не знаю, что они там высвобождают, — буркнул он. — Мне главное — чтобы дорогу указывали. Много ты их кинула по пути?
— Через каждые полсотни шагов, братец. Ох и страху натерпелась… Все время приходилось отставать, чтобы отец не заметил… Я катышки в траве пристраивала, но не там, где слишком густо. Так, чтобы их днем заметно не было, а ночью, как засветятся…
— Ясно. — Гензель взглянул на быстро темнеющее небо. — Если светятся, как те твои прошлые, значит, отыщем.
— Отыщем, братец. Но…
Гензель нахмурился. Не любил он таких «но».
— Что такое?
— Эти катышки не… не такие, как прежние, — смущенно сказала Гретель, ковыряя пальцем дырку в чулке. — Они…
— Что — они? Сама же говоришь, что светятся?.. Ну так нам больше ничего и не надо, пойдем домой, как по путеводным звездам. Ну что?
— Ты понимаешь, братец… Я же эти катышки делала из того, что нам Мачеха каждое утро на завтрак давала, — пробормотала Гретель.
Гензель вспомнил неизменный, как каменные улицы Шлараффенланда, завтрак Мачехи, выдаваемый всем на рассвете под утробный бубнеж давно выученных наизусть наставлений. Контейнер с мутным бульоном, кажется, белковым, невероятно соленым на вкус. «Всегда помни о своем месте в обществе и уважай тех, кто занимает более достойное положение». Одноразовый тюбик сладковатой пасты с глюкозой. «Помни: каков бы ни был твой фенотип, ты человек, что означает не только права человека, но и обязанности человека». Запаянная упаковка с чем-то рыхлым, похожим на грибную мякоть, кажется, биополимерная пищевая смесь. «Трудись на благо общества и помни, что нет большего счастья, чем быть человеком». Еще один контейнер, наполненный крошечными серыми гранулами, минеральные соли. «Будь ты октороном, квартероном или даже мулом по крови — не отравляй себя гордыней или принижением, чти свой фенотип таким, каким он был создан, и не помышляй о другом…»
Голос Мачехи был сухим, как смесь минеральных солей, и столь же скрипучим. Гензель давно привык к его отстраненности, как привык когда-то давно к неизменным завтракам. Наставления выдавались теми же взвешенными дозированными порциями, что и пища, однако насыщали еще меньше. Голос Мачехи, который он слышал каждое утро, звучал всегда неизменно, но Гензель знал, что, несмотря на это показное безразличие, Мачеха обращает на него, Гензеля, самое пристальное внимание. Каждый день, перед гем как отправить на работу, Мачеха придирчиво изучала его — рост, вес, состав крови, артериальное давление, процент жировых отложений. Мачеха заботилась о нем, пусть и без лишней нежности. Вспомнив ее неуклюжую заботу, Гензель ощутил щемящую тоску по дому. В гнилом нутре Железного леса становилось все более и более жутко.
— Так в чем беда? — спросил он у Гретель, виновата повесившей голову. — Какая разница, из чего ты делала свои катышки?
— Сегодня утром Мачеха не дала нам пасты с глюкозой.
Действительно, Гензель только сейчас вспомнил это. Нынешним утром им не выдали пасту с глюкозой. На мгновение вспомнилось короткое утреннее огорчение — паста была самым вкусным блюдом в дневном рационе. Но он быстро забыл об этом, помогая отцу смазывать механическую ногу и чистить ружье… А Гретель, выходит, не забыла.
— Чтобы катышки были правильными, им нужна эта паста, — пояснила она. — В пасте есть специальные штуки… Они для запаха.
— Какого запаха? — не понял Гензель. — Зачем им запах, твоим козявкам?
— Для специального противного запаха, — терпеливо объяснила Гретель, — чтобы катышки плохо пахли и лесные звери их не ели.
Гензель сжал зубы. Об этом он тоже не подумал. А Гретель молодец, все предусмотрела. И в самом деле, они в самой гуще Железного леса, где на каждом шагу хищные твари и невиданные чудовища, коварные или же бездумные уничтожители живой плоти. Сколько часов пролежит беззащитный крошечный катышек на тропинке, прежде чем пропадет в чьей-то жадной пасти?..
— Так, значит, эти твои катышки без противного запаха? Просто светятся, и все?
Гретель кивнула, отчего непослушные белые пряди в очередной раз выбились из-под платка.
— Угу.
Гензель похолодел, собственное его сердце стало одноклеточным комочком ткани, крошечным и твердым. Гретель всю дорогу от Шлараффенланда разбрасывала свои катышки. Светящиеся в темноте, но не имеющие никакой защиты от здешних хищников.
— Пошли! Живо!
Он схватил сестру за руку и потянул к тропинке. Гретель покорно пошла следом, придерживая подол, норовивший зацепиться за обломки выпирающих из земли корней.


![Надежда Кожушаная - Нога [киносценарий]](/uploads/posts/books/276827/276827.jpg)