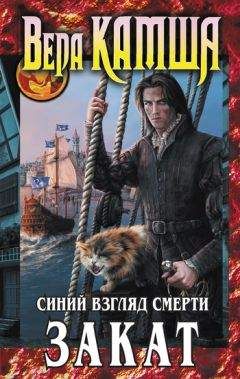Вера Камша - Сердце Зверя. Том 2. Шар судеб
Матильда пожала плечами, глядя на серебрящуюся Рассанну. Спорить было глупо, стрелять – тем более, оставалось переждать олларианскую болтовню, как пережидают дождь.
– Плечи у тебя хороши, – раздалось за спиной, – и что пониже не хуже, а вот с головой – конфуз. Что дальше-то делать наладилась? Пить бросила, дружка шуганула… Так и засядешь в Сакаци кучей? Носом шмыгать да Создателя гневить?
– Мое дело! – Хряк не отцепится и не уйдет, значит, уйдет она. Все равно надо собираться, а с Рассанной они еще простятся.
– Твое дело, говоришь? А грехи кто за тебя искупать станет? Наворотила ты – надо бы больше, ан некуда! Родню подвела, с еретиками и поганцами спозналась, беду в своем доме вырастила да другим подбросила – нате, ешьте, а сама сперва в кусты, потом – в печали. Сидеть тебе за такое в комарином болоте по уши, если искупить не поспеешь. Только не дурью всякой, не лбом об пол, задом кверху…
– Хватит, твою кавалерию! – рявкнула принцесса, поднимая пистолет. – Как жила, так и сдохну… Чем к моим грехам цепляться, свои бы искупал!
– А я что делаю? – хмыкнул епископ. – Сижу тут с тобой и искупаю. Что по молодости натворил, за то, спасибо доброму человеку, при Дараме худо-бедно расплатился. Поможет Создатель – и за несотворенное рассчитаюсь, и за злобу на того, кто за шкирку гордеца ухватил и от мерзости превеликой оттащил. Ты же – долг мой пастырский. Так не дам я тебе душу вместе с телом сгноить, даже если кусаться станешь! В Алат она собралась… Да кому ты там нужна, кроме доезжачего своего?
– Никому. – Слушать то, что и так ясно, становилось невмоготу. – Но ты мне еще больше не нужен.
– Экая брыкливая. – Бонифаций и не думал смотреть на вороненое дуло. – А покуда ты брыкаешься да задом бьешь, война идет, и нешуточная. Она б и так началась – время пришло, но без Альдо твоего многих пакостей не случилось бы. Ты сему нечестивцу – бабка.
– Да, – удивляясь собственному спокойствию, признала Матильда, – я – бабка Альдо Ракана, а ты – наш враг. Пошел вон.
Олларианец зевнул и почесал нос.
– Убрала бы ты, дочь моя, пистолет, – изрек он. – Рука занемеет.
2
Мамины глаза лучились нежностью и лукавством. Такой она бывала, когда приносила подарки, радовавшие ее больше тех, кому они предназначались. Боясь спугнуть эту радость, маленький Руппи мужественно жевал противный инжир, а выросши, носил шитые серебром камзолы и усыпанные бриллиантиками кинжалы, годившиеся разве что для разделки персиков. Спасла бабушка, объявившая, что брат кесаря[2] должен быть воином и моряком, а не карамельным принцем. Руперт избавился от ненавистных блесток, но покатившиеся по маминым щекам слезы не забыл, даже окунувшись с головой во флотскую жизнь. То есть, конечно, забыл, но стоило очутиться в Фельсенбурге, и воспоминания вернулись, а с ними – страх огорчить или напугать. Зато все чаще вскипающее раздражение было чем-то новым и не сказать чтобы приятным.
– Тебе пишут, милый. Угадай, кто?
Не Олаф, иначе б она не улыбалась. Мама не любит Ледяного и боится, хоть и не так сильно, как едва не укравшего отца Бруно. Обрадовавшие ее письма не придут ни с моря, ни с границы, ни тем более из Талига, да Арно и не станет писать в Дриксен. А Бешеный… Бешеный вообще писать не будет. Никому.
– Ну? Угадал? – Ямочки на щеках, солнечные локоны, а в них – синие соловьиные колокольчики. Уже расцвели…
– Нет, мама, не угадал. – Кто-то из родственников. Из тех, кто не выманит драгоценного сына из замка.
– Не отдам, пока не подумаешь. Ну же! – Мама нетерпеливо топнула белой туфелькой. Вокруг белокурой головки вспыхнул солнечный ореол. – Ох, иволга! Чудо какое…
– К нам кто-то приезжает? – вмешалась Агата. – Папа? Когда?!
– Ох… Не знаю, милая… Наш славный рыцарь занят, но мы его скоро увидим, и не только его. Мы все будем вместе в это лето, как и положено любящим сердцам.
– А как же?.. – Сестра даже отложила шитье. – Бабушка обещала нас взять в Эйнрехт! Она… она передумала?
– Мамочка Элиза очень занята, но, милые, разве вам плохо среди наших рощ? Тем более к вам вернулся братик. Неужели вы готовы его покинуть?
Девчонки покраснели и потупились. Им отчаянно хотелось в столицу, особенно глядя на платья Гудрун, а поездка все откладывалась. Из-за нагрянувшего братика.
Бабушка велела ждать, и Руперт был с ней согласен – он появится в Эйнрехте в день суда, чтоб ни одна ворона не каркнула, что Олаф повлиял на показания Фельсенбурга. Любопытно, можно ли в подобном обвинить Гудрун, хотя это не по-рыцарски, да принцесса больше ни на чем и не настаивает. То ли поняла, что Руперт не станет врать, то ли избегает заводить разговор при свидетелях, хотя кто-кто, а дочь кесаря может настоять на приватной беседе.
– Госпожа, – садовник Клаус с благоговением смотрел на свою герцогиню, – что прикажете срезать для ваз в столовой: тюльпаны или ранние ирисы?
– Ирисы… Конечно же, ирисы! «Снежный сон» и, наверное, «Танец»… Или он еще не расцвел?
– Не вполне, госпожа.
– Я сейчас посмотрю… Руппи, ты так и не угадал?
– Нет, мама.
– Ленивец! Тебе пишут твои кузены Людвиг и Ларс. Обязательно им ответь, мальчики так тобой восхищаются… И порисуй перед обедом с Михаэлем! Я пришлю моим мальчикам краски.
– Конечно, мама.
– Я вернусь и проверю.
Нежный поцелуй, шорох платья, прощальный взмах руки… Сколько чувств! Можно подумать, они расстаются на год. Иногда это трогает, иногда бесит. Как сейчас.
– Почему ты не читаешь письмо? – напомнила Агата.
– Да, – спохватилась Дебора, – почему? Что там, в Штарквинде?
– Прочту в библиотеке, – нашелся Руппи, – сразу и отвечу.
– А…
– А вам все знать не обязательно.
3
Будь Матильда в себе уверена, она бы отстрелила олларианцу клок волос, но хряк мог дернуться, а рука – дрогнуть. Пришлось с достоинством убрать подарок Дьегаррона и взгромоздиться на Бочку, покинув гостеприимный холмик. Бонифаций не отцепился. В седле скот держался уверенно, а перейти на галоп Матильда не рискнула. Епископ мог и отстать, а что стала бы делать она в степи? Ждать, когда по следу собак пустят? Это в горах неповторимы каждый камень и каждая елка, а тут какие приметы, кроме облаков?
Бочка заинтересовался одиноким кустом, и Матильда ослабила поводья: пусть лопает, не жалко. Епископ продолжал басовито зудеть, стань поганец полосатым, сошел бы за шмеля.
– Что должны святые и праведные? – Пьяница воздел к небу палец, внезапно напомнив дядьку Антала из Сакаци.
– Жить в праведности, – огрызнулась принцесса, – чего и вам желаю.
– Тебя послушать, так дело святых – небо коптить и людей нудить, пока к праотцам не отправятся. Мученически. Святые, дочь моя, рознятся, как зерна и плевелы. У эсператистов святость недеянию равна и небокопчению, потому как иначе выходит, что святость ценна тем, что дает людям. А еретики агарисские хотят, чтобы наоборот.