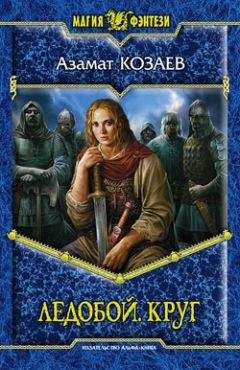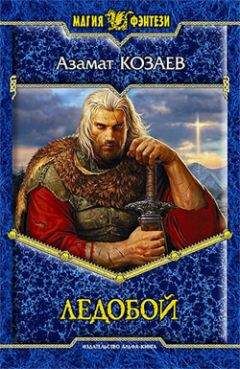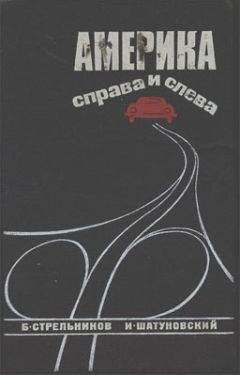Ледобой. Зов (СИ) - Козаев Азамат Владимирович
— Здесь он стоял.
— Кто?
— Кто надо, тот и стоял, — весело подмигнул Кисляю, что заглядывал от двери, да войти не решался. — Гляди, Кисляйка, запоминай.
— Что?
— До чего золото доводит. Сожрать хочешь, а не получается, давишься, а оно наружу лезет.
— Чубановы сыновья приедут, не обрадуются. Как бы нам не досталось.
— У Чубана лишь один добрый сын, и тот, видать, от соседа, — буркнула поросятница. — Золото на меч променял.
— Всё, расходись, народ! — углекоп вышел на крыльцо. — Дел невпроворот, а всё дурью маетесь.
— Да какие к Злобогу дела, когда кругом такое творится! — возопила тощая сплетница. — Не сегодня — завтра костлявая пожалует!
— А ты не много на себя взял, чернявый? — купчик с козлиной бородой, погрозил пальцем.
Углекоп решительно сошел со ступеней, подошёл к козлобородому, за шиворот подтащил к крыльцу.
— Глаза разуй! Рукавицу видишь? Княжий знак видишь? А как всё это прочитать, знаешь? — описал рукой круг: толпу, себя, дом Чубана.
— Как? — затрясся купчик, елозя в собственной рубахе, да разве из этой хватки выскользнешь?
Кисляй, стоявший рядом, мало с крыльца не сверзился через перила, так назад пятился: его, его, дурака козлобородого за шкирку таскай, так ему. А меня не трожь.
— Не продавайся, не продавайся, не продавайся! — углекоп трижды едва не носом сунул худосочного болтуна прямо в рукавицу, тот упирался, корячился изо всех сил, отворачивался, ровно в настоящее пламя тащат. — Служи честно, блюди порядок, чужих не слушай!
Чужих не слушай, а по сторонам гляди — там интересного много. Вот по улице, мимо дома старейшины кони идут, мерно топочут, никуда не спешат. Углекоп рот раскрыл, дышать забыл, отпустил козлобородого, и тот мало не упал. Три конька бредут друг за другом, ровно бусины на нитке, второй привязан упряжью к седельной луке первого, третий — второго. Никуда не торопятся, не кони, а птицы вольные, да и некому подгонять. Тот, кто мог подгонять, в седле сидит и молчит. Рукой не шелохнет, ногой не дёрнет, голова безвольно мотается по груди в бой шагов. Толпа выплеснулась за ворота Чубанова двора, люди остановили коней и долго, потрясённо молчали. Давешние трое. Вестоносцы. Привязаны. Рыжего точно в огромных жерновах мяли, половина шкуры на лице вместе с бородой стёсана, мало клочьями не болтается — волоком его по земле тащили, что ли? У второго трещина обнаружилась прямо поперёк груди в палец глубиной, даже торцы костей видны, разрублен вместе с доспехом и рёбрами. Седло кровищей залито, конь волны по шкуре запускает, мух гоняет. Третий… в глотке нож торчит, правая рука… сломана в локте, вывернута против естества, аж рукав перекручен, пальцы за ремень сунуты… на пояснице.
— Тьфу, даже смотреть больно! — поросятница осенилась обережным знамением, покачала головой. — Этот руку тебе ломал?
— Он.
И, украдкой оглянувшись, на себе молча показал, дескать, лицо замотано. Поросятница кивнула, да, похоже, он. Подумала мгновение, пальцами расчертила себе лицо, мол, рубцы. Ага? Углекоп не сразу, но ответил кивком. Похоже, ага….
Глава 17
Сивый мало не птицей перемахнул мост, едва не намётом влетел в Сторожище, и лишь в пределах городских стен спешился. Тенька шумно дышал и ругался, совсем сдурел, что ли?
— Стюжень слёг, — сообщили сторожевые у ворот.
— Где он?
— В старом святилище. Не схотел в городе, опасно, мол.
— Ты уж потерпи, — влетел в седло, развернул Теньку и припустил во всю лошадиную мочь, только грива по ветру и разлетелась.
Скорее молнии пролетел мост, тёмной стрелой расчертил памятное поле битвы, с которого не смогло уйти войско оттниров, и на котором несколько лет потом росли травы в пояс человека — травы! на камнях! — размётывая буруны гальки из-под копыт, летел по берегу до приметного мыска, свернул в лес и спрыгнул наземь. Дальше пешком.
У огня стоят сосновые ложницы, на одной на ворохе веток лежит Стюжень, бледный, ровно при смерти, лицо изъедено болячками, огромная язвища щеку проела — зубы видно. Старика заливает пот и немилосердно трясёт. Глаза прикрыты, губами шевелит слабо-слабо, говорит что-то, только не понять, что. На второй ложнице почему-то лежит… Урач. Чуть поодаль стоят Отвада, Моряй, Перегуж.
— Наконец-то! — Отвада сгрёб Сивого в охапку, крепко прижал к себе, потрепал за вихор. — Тебя ждёт, только потому и держится.
— Говорит что? — Безрод кивнул на ворожца, нахмурился.
— Только Урач знает. Никого больше не подпускает… не подпускал, — Моряй поправился, ожесточённо сплюнул, обнял Безрода. — Говорит, мол, они старые, а на нас княжество и люди.
— Урач, тоже болен, — Перегуж по-отечески заключил в объятия бывшего воеводу застенков. — Ходит еще, говорит, но язвы уже пошли по лицу. Недолго обоим осталось.
— Где заразу поймал?
— Сам заразился, — Отвада покачал головой.
— Сам?
Стоишь как тупица и видишь то, что не привиделось бы и в самом жутком сне. Даже язык отказывается это произнести, глаза не хотят видеть — слезами отгораживаются. Стюжень умирает. У-ми-ра-ет. Вроде и стар уже, и случиться это могло даже год назад, но седобородый исполин сделался чем-то вроде позвоночника: всегда при тебе, ровный, прямой, и спина не гнется даже тогда, когда и сил-то не осталось.
— Сколько ворожцов тут было, не смогли подобраться к болячке. Ну… наш и решил через поганую воду найти гада. По заклятию следа.
— Нашёл?
— Почти, — Отвада крутил в руках толстый сук, крутил да и сломал в сердцах. — В шаге остановился. Говорит, вот-вот за руку схвачу, да сил не хватает глубоко во тьму нырнуть.
Сивый усмехнулся, подошёл к ложу, какое-то время стоял над стариком, потом вдруг наклонился и поцеловал в самый лоб.
— Назад!
— С ума сошёл?
— Ты что сделал?
Безрод повернулся. Горчит Стюженев пот, ровно молочая наелся. Жуткая штука мор.
— Ты что сделал? — Отвада ярился так, что едва бороду на себе не рвал, Перегуж кусал губу, Моряй просто замер на вдохе, глаза круглые — рот раззявлен. Все трое на месте ёрзали, да подойти не решались, друг друга за руки хватали, сдерживали.
— День, — Сивый ухмыльнулся, кивнул. — Дай один день.
Отвада шумно выдохнул, закрыв глаза, обреченно закачал головой. Присел на повалку.
— У тебя дети.
— У тебя тоже.
— Зачем?
— Что-то жуткое творится. Князья вот-вот совет созовут — потребуют у тебя мою голову.
— Знаю. Ну и что?
— И ты дашь.
— Нет!
— Да. Всем не объяснишь, что Сивый добрый малый.
— И ты решил сдохнуть в муках?
— Сам знаешь, просто напомню: княжество раскачивают. Ездят по селам и мутят воду, мол, князь душегуба от суда прячет. Князь плохой.
Перегуж и Моряй переглянулись. Действительно воду мутят. Хоть прямо думай, хоть иносказательно. Плохо дело. Бояре подсуетились, как пить дать!
— Для того ты на плёсе собственной шкурой мечи тупил, чтобы тут в лихорадке сдохнуть? Для того с застенками в леса выбрался, чтобы виноватым сгинуть?
Сивый пожал плечами, может и для того. Усмехнулся. Своих вот нашёл. Тоже немало. Деда увидел, дядьку, братьев двоюродных, согрелся маленько. Мальчишек в жизнь по собственным следам отправил, Верна проводит, сколько сможет, приглядит. Многого ей не сказал, иной раз язык узлом сворачивается, как начнёшь выдыхать «лю…», так и замыкает горло — ну там волос ей поправишь молча, шейку погладишь. Не то, конечно, но не дура, понимает. Когда-нибудь все уйдут в иной мир, но вот честное слово, однажды на пиру у Ратника воссядет некоторый ухарь, и будет он смеяться так лучезарно и ослепительно, что вся дружина раскатится по скамьям, по полу разваляется, держась за животы. И не помешают ему рубцы по лицу, пусть и тянут, ровно смола на лице застыла. И плевать, что битва со вселенским злом впереди — только веселее станут парни.
— Может, всё-таки мой сын? — Отвада с тоской глядел исподлобья. — А что, такой же упрямый и такой же болван! Когда походами на полдень ходил, Серебрянка вполне себе могла родить, вот какое дело. Ну, понимаешь, я с ней…