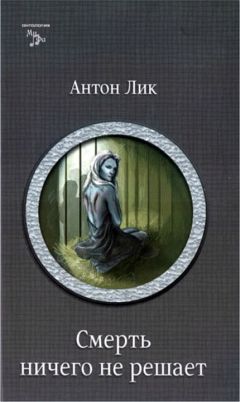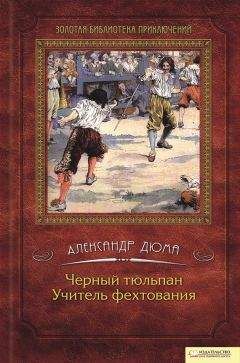Екатерина Лесина - Наират-2. Жизнь решает все
— Могу пропустить интересное. Я ведь любопытный.
— Да чего тут интересного? Еще несколько часов…
Неудобные тапки исчезли в копне сена. Туран перекатился с пяток на носки и обратно: совсем другое дело.
— Видно из-под халата.
— Ничего, ноги подогну.
Проходивший мимо стражник-кунгай в черненом панцире оскалился, но, разглядев тамги, просто хлопнул по ножнам рукой и напустился на слуг, что раскатывали разноцветный ковер. Не убоявшись грозного вахтангара, один из работников принялся указывать то на распорядителя, то на незавершенную яркую линию, каковой надлежало быть вплетенной в сложный узор мягких дорожек.
— Вирья. — Напоследок Туран завозился, перебрасывая через плечо небольшую котомку: — Если, что… Дверь будет открыта, я устрою.
Мальчишка даже не взглянул на Турана. Молодец, понимает конспирацию.
— Я бы не хотел сегодня играть на свирели для тебя, — произнес он очередную несуразицу.
Да уж, не до изысканной музыки нынче…
В четверть силы ударили думбеки, просто проверяя тугую кожу, осторожно сходясь с редкими и тихими пока трубами и кимвалами.
И потекли из-под разукрашенных охрой арок люди. Медленно, чинно, тонкими струйками. Благороднейшие из благородных, знатнейшие из знатных заполняли назначенные им лакуны. По имени, по чину, по древности рода, каковая порой важнее чина и имени. Высокие шапки, обсыпанные жемчугом, сапфирами и агатами; халаты и тегиляи в золотой чешуе; расшитые переливающимися шнурами шаровары. Разноцветные потоки образовывали озерца, разделенные не менее яркими коврами и стражниками-вахтангарами в киноварных лентах — нынешнем главном цвете Наирата.
Тяжко бы пришлось мэтру Аттонио, среди этих красок почти не осталось места теням. Но эта яркость — лишь фон, оправа для истинных драгоценностей. Множество мест еще не заполнены и прежде всего — помост с бело-черным шатром и все, что перед ним. Пустуют на возвышении диваны и кресла. Пустует — одесную, согласно традиции — просторный загон для лошадей. Пустует — для публики — и малый загон ошуюю, которому уж точно нет роли в древнем ритуале. Кому нужна эта высоченная загородка да к тому еще и забранная тяжелой тканью?
Туран стоял рядом с вахтангаром, прислушиваясь, не раздается ли из-под этого полога рычание. Вроде нет. Мяучит. Но лезть туда сейчас, когда все внимание вновь прибывающих наирцев сосредоточено на помосте и всём, что творится рядом, нельзя. Да и не позволит ни распорядитель, ни этот бугай. Такой, если ухватить, одной пятерней смелет и в колобок скатает. Опасный он и вовсе не медленный.
Цанх-младший — отсюда было видно только его — будто приклеился к клетке с уранком. Старший наверняка суетился сейчас около шипунов, где ему в процессе ругани определили место Туран и Грунджа.
Точно, мяучит. И скрипит о решетки чешуей… Или нет? Может, опять ремни пережали? Или грызло не по вкусу? А если перемелет? У него ж зубы такие, что и самую крепкую сталь раскрошат.
Еле уловимый звук сперва затерялся в гомоне толпы.
И вдруг добавился новый: по пустой расселине центральной улицы, с самого дальнего её конца, понесся размеренный гул. Сперва он заткнул местных музыкантов, потом заглушил толпу. Площадь перед хан-бурсой затаилась, позабыв и о пустом шатре, и о клетках с животными, и о задрапированной киноварным сукном загородке. Все слушали ритм, все смотрели на центральную арку.
Минута, другая, третья, десятая. Процессия тянется от самой Ханмы-замка. И вряд ли торопится. Наверняка там вымеряют шаги, делают какие-нибудь замысловатые остановки и преклонения… В Наирате полно обычаев и ритуалов, каждый важен и значим. Куда важнее человеческой жизни. Наконец местные музыканты лихо подхватили бой и стоны, слились в единой мелодии с оркестром-родителем.
Ясноокий Ырхыз въехал на площадь на великолепном жеребце-хадбане. Простой панцирь, шлем у седла рядом с колчаном, по другую сторону — короткий изогнутый лук. На поясе меч и плеть, в руках легкое копье. В нескольких локтях позади следовал эскорт кунгаев, среди которых синим плащом выделялся Морхай. Дальше, чуть нарушая порядок, смешались пешие и конные свитские из самых важных и приближенных.
Музыка смолкла.
Подъехав к загону для лошадей, ясноокий Ырхыз спешился, ввел коня через распахнутые ворота и привязал к коновязи. После чего взбежал по широким ступеням на помост и громко произнес:
— Богат я конем, но и его отдаю под Золотую Узду.
Словно в ответ распахнулись ворота хан-бурсы, выпуская дюжину харусов. Все как один в коротких черно-белых халатах и окулярах. Шли они нарочито долго и спокойно. Но все знали, что скрывается за этой неспешностью: память о прошлом, о наемниках, переодетых харусами, о резне и тяжелой руке молодого кагана Тай-Ы, сумевшего удержать поводья ускользавшей власти.
Черно-белая гусеница осторожно ползла вдоль цепи кунгаев. Слишком близко, как раз на расстоянии удара меча. И вахтангары готовы были бить. Кто-то покачивался в бедрах, кто-то, не скрывая, держал ладонь на рукояти. Малейшее подозрение — выхватит клинок и на том же движении рубанет с протягом.
Забавно. Сын мясника опасается, что его самого прикончат отцовским способом. Правильно опасается, совсем не ждать удара глупо. Но хитрый враг обладает тысячей рук и бьет с тысячи направлений.
А харусы сегодня истинны в своем служении и вере. Самый первый из них, благообразный старик, остановившись у подножия лестницы и повернувшись к толпе белым боком, а к Ырыхзу черным, громко затянул вовсе непонятную молитву. Вторую он прочел, пройдя ровно половину ступеней и стоя белой стороной к ясноокому. Третью же произносил и вовсе с помоста, уверенно заняв место по левую руку от Ырхыза. Его одеяния почти слились с раскраской шатра.
Остальные харусы рассыпались вдоль цветных рядов, нагоняя страх и дурные воспоминания уже на зрителей. Отмыть булыжники от крови несогласных, что пролилась более чем двадцать лет назад, оказалось проще, чем очистить память людскую.
— Комше, Всевид! — прозвучало сверху в последний раз.
Тихо и слажено, через боковые лестницы, помост заполнялся людьми из свиты. Они чинно расселись по креслам и диванам позади Ырхыза и хан-харуса, многие остались стоять. Среди них и склана. Издали она казалась почти человеком, и дерзкий антрацит кожи гас в нежных объятьях лилового шелка, вот только сама тусклость одежд выделяла её в этом пиршестве цвета. Её и молодого кагана.
Хотя была и в склане яркая черточка: серебристая петля у пояса, поначалу принятая за украшение. Но нет, это не подвеска и не шнур из переливчатой нити-кудхи. Это кнут. Камча? Символ наирской власти? Непонятно, кто сдурел… А впрочем, почему, собственно, непонятно? Ясно, кто отдавал беспрекословные приказы.