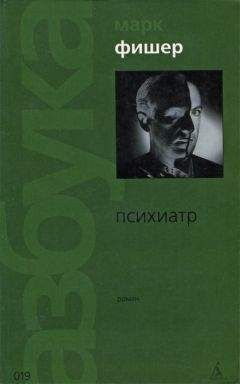Макс Далин - Убить некроманта
В дороге я с Питером не разговаривал. Много ему чести — слушать короля. Я по-прежнему презирал плебс безмерно, мужчин-плебеев едва ли не сильнее, чем женщин. Брезговал, как грязными скотами, — тем более что этот был вором, последним отребьем, ничтожеством.
Но я на него смотрел. И хорошо рассмотрел. Пожалуй, гаденыш был недурен. С непристойно смазливой физиономией, на которой еще не росли усы, одетый в платье и с уложенными в прическу волосами, он, вероятно, сошел бы за рослую плебейку — особенно если не придавать значения кровоподтекам и принять во внимание его умение кривляться… Впрочем, дешевую девку вполне может отлупить ее случайный дружок, так что разбитая рожа вовсе не разрушила бы создаваемого образа. К тому же на его волосах еще остались следы краски, а его нарочито кроткая мина и взгляд, слишком быстрый и слишком цепкий для приличного человека, вызывали у меня то приступы похоти, то желание взглянуть, как эта дрянь будет орать от боли.
Разумеется, полагал я, все его ужимки — притворство, тем более омерзительное, что он, конечно, принял к сведению слухи о моих извращенных наклонностях. Тварь, скользкая как угорь, готовая изобразить что угодно, лишь бы одурачить и чуть-чуть оттянуть развязку. Ни на что, кроме дешевой игры, не способен и корки хлеба в жизни честно не заработал. Ну, и надо же мне было вмешаться в эту трижды никчемную жизнь!
Если говорить начистоту, я весь день накручивал себя, изо всех сил не желая поддаться собственной блажи. Думал, что этот потенциальный висельник — никаким боком не Нарцисс, как бы он передо мной не лебезил. Думал, что близость плебея, как бы условна она ни была, может только запятнать. Думал, что грязный намек на площади у эшафота ему еще отольется. Кусочек жизни он, предположим, выпросил, но устраивать ему райские кущи непонятно за какие заслуги я не намерен. Я, положим, еще мог приблизить к себе Марианну, бедную девку, попавшую в свое время в переплет ни за что ни про что, не виноватую в том, что она дура, но этот-то гаденыш виновен по всем статьям, так что я с ним потешусь, как пожелаю. Разве он не заслужил наказания?
Сам ведь напросился. Сам намекал бог знает на что. Мог ведь смыться к своим сообщникам — остался; любопытно, на что понадеялся. На королевскую милость? Ну, поглядим, как он примет эту милость, провокатор поганый. И если хоть попытается возразить, я шкуру с него сдеру ленточками. Не без удовольствия.
Так что если накануне, когда Питер рискнул просить милости, в моей душе и мелькнула какая-то бледная тень возможной приязни, то к вечеру нынешнего дня я тихо закипал от злости, смешанной с презрением, и желания покончить с пустыми разговорами о моих порочных наклонностях навсегда. Мне показалось даже, что это неплохой выход из тоски: взять подлую тварь без души, которая цепляет тебя за те низменные черты твоего естества, от которых ты не прочь бы избавиться, насытиться ею до рвоты, вышвырнуть вон и забыть. Похоть и любовь в действительности совершенно ничем друг с другом не связаны: в конце концов, попыткой притушить похоть любовь не оскорбишь.
Самое забавное, что все эти нелепые коллизии плескались в моей душе где-то выше Дара. Дар дремал себе, как тлеющий костер, — и мое смятение ему нисколько не мешало. Приятно.
Вечером я остановился на постоялом дворе. Все сидевшие внизу, в трактире, естественно, быстренько удалились, но я, противно собственному обыкновению, отправил гвардейцев взглянуть, не остался ли кто в комнатах для гостей, и выгнать оставшихся. И бросил несколько золотых расстилающемуся хозяину.
Я был уже в таком расположении, что опасался необходимости оставить здесь к утру растерзанный труп воришки. А таким развлечениям свидетели не нужны. У меня и так дивная слава — пробы ставить негде.
Есть мне совершенно не хотелось, зато я выпил вина. Потом еще выпил. Приказал гвардейцам привести Питера и оставаться у дверей в комнату — внутри, а не снаружи, как обычно.
Думал, что мне может понадобиться их помощь. Боюсь, что долгое одиночество, бесконечные потери и двое суток безумных мыслей сделали меня настоящим зверем. То, что я рисовал в своем воображении, было не столько непристойно, сколько предельно жестоко. Человек, к которому применили бы лишь одну из придуманных мной тогда процедур, горько пожалел бы о том, что променял на это наказание кнутом.
Питер вошел в сопровождении пары скелетов. Улыбаясь. Меня поразила и взбесила его самоуверенность. Я разглядывал его, сидя на стуле с хлыстом на коленях и ждал, чтобы он сказал что-нибудь в обычном плебейском духе: фамильярное, хамское, заискивающее, просто глупое. Чтобы я мог врезать ему хлыстом по роже, придравшись к словам. Я этого ждал с наслаждением.
А он сказал с тою же улыбкой, совершенно простодушно, встав на колени рядом со мной и глядя мне в лицо:
— Я вам так благодарен, государь. Знаете, вы же первый, кто ко мне по-человечески отнесся. Я же аристократов хорошо знаю — ничего, ей-богу, не ждал на самом деле… — Опустил голову, попал взглядом на хлыст, моргнул и спросил, чуточку даже сконфуженно: — Хотите меня отлупить за эту… ну… за эту глупость там, вчера, да? Я понимаю, нагло ужасно вышло… так что я действительно…
Вздохнул — и начал расстегивать куртку с виноватой такой и кроткой миной. С тенью улыбки.
Ушат воды на огонь. Мне в жизни не было так стыдно собственных намерений. Кровь прилила к щекам с такой силой, что, боюсь, вампиры в этой местности проснулись до заката. Я потерялся и не знал, что делать, поэтому молча наблюдал, как он стаскивает куртку, как развязывает шнурок на вороте рубахи, а на меня глядит странно, как-то почти сочувственно. Говоря:
— Мне, правда, жаль, государь. Но я же, знаете, даже в голову не брал, что вы действительно меня помилуете, да еще и возиться со мной станете. Я думал — рассердитесь, велите прикончить побыстрее. Вы простите… Меня просто кнутом уже били однажды, всего-то пятнадцать раз, а я подыхал несколько месяцев… Я перепугался ужасно. Лучше веревка, правда… Смерти-то я не боюсь, боюсь сгнить заживо…
Стыд достиг совсем уж невыносимых величин. Я отшвырнул хлыст в угол. Питер просиял:
— Так вы меня прощаете? Правда? Не сердитесь больше?
Я подал ему руку, и он не то что поцеловал, а прижался к ней лицом, не выпуская, как младший вампир, который пьет мой Дар. Прошептал:
— Я для вас — все, ну — все, только прикажите.
И у меня на душе как будто чуть-чуть потеплело впервые со дня смерти Магдалы.
Я так и не знаю, что во мне в те дни было от кого: чье Божье, а чье — Тех Самых. А может, Божьего и вовсе не было. И что бы я ни сделал — убил бы Питера или приблизил бы его к себе, — Та Самая Сторона все равно взяла бы свое.