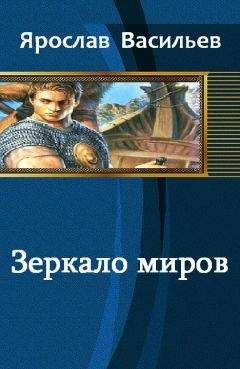Мервин Пик - Горменгаст
— Говорить, что ли, больше не о чем, как об этой восковой жирафе, чтоб меня Бог ломтями нарезал! — пробормотал сквозь зубы Мулжар.
— Станет он связываться с этакой грудой неблагого мяса, — откликнулся Перч-Призм. — Мне стыдно за вас!
— Нет, в самом деле, ага! Что я им, бурак? Как будто не видывал я лучших дней и занятий, ага, да отпустят мне Небеса все грехи, — я разве бурак? — так восклицал развеселый Цветрез, и по тону его чувствовалось, что он задет за живое.
— Как говорит Теоретикус в своей диатрибе, направленной против использования низкого просторечия, — пролепетал Фланнелькот, давно ожидавший мгновения, когда у него, по счастливому совпадению, и храбрости достанет сказать что-нибудь, и что сказать найдется.
— И что же он говорит, ваш старый прохиндей? — осведомился Опус Трематод.
Кроме него, однако, интереса никто не выказал, и Фланнелькот понял, что возможность упущена: сразу несколько голосов перебили его, не дав завершить пугливое замечание.
— А что, Шко так на нее и пялится? И дайте мне кто-нибудь вина, во имя праха, из которого нас слепили, — жажда такая, точно я с утра среди кактусов околачивался, — сказал Перч-Призм, задравший плоский свой нос в потолок. — Не будь я так хорошо воспитан, я бы обернулся и сам посмотрел.
— И не дернулись ведь ни разу, — сообщил Цветрез. — Статуи, ага! Жуть какая!
— Некогда, — встрял скорбный голос Фланнелькота, — я пристрастился ловить бабочек. Давно это было, в земле ласточек, полной русел иссохших рек. И вот, одним мглистым днем…
— В другой раз, Фланнелькот, — сказал Цветрез. — Идите сядьте.
Фланнелькот, опечалясь, побрел прочь от коллег — искать себе стул.
Кличбор же тем временем смаковал редкостный аперитив любви, вечный язык взглядов.
Собравшись с мыслями и приняв выражение человека, всегда остающегося хозяином положения, он перебросил подол мантии, как если бы та была тогой, через плечо, и отступил на шаг, озирая распростершегося у их ног человека.
Однако, отступая, он чуть не отдавил ногу доктору Прюнскваллору — и отдавил бы, если б тому не хватило проворства отпрыгнуть в сторону.
Доктор на несколько минут выходил из залы, и ему только теперь сообщили о том, что на полу ее лежит неподвижное тело. Когда Кличбор отшагнул назад, Доктор как раз собирался приступить к осмотру страдальца, а теперь возникла новая помеха — Кличбор заговорил.
— Драгоценнейшая моя госпожа, — произнес львиноголовый старик, начавший уже повторяться, — жар это все. Хотя нет… не все… но многое. То, что один из моих подчиненных, или лучше сказать коллег, да, причинил вам неудобства, навсегда останется для меня огнем, пожирающим уголь. А почему? А потому, драгоценнейшая госпожа, что это я обязан был подготовить его, вышколить по части достойных манер или, еще того лучше, черт бы меня побрал, оставить его дома. Вот этим я сейчас и должен заняться — распорядиться, чтобы его убрали прочь. — И Кличбор возвысил голос: — Господа, — воскликнул он, — буду рад, если двое из вас унесут отсюда коллегу вашего и доставят его домой. Возможно, профессора… Фланнелькот…
— О нет! Нет! Я против!
То было восклицание Ирмы. Выступив вперед, она поднесла ладони к длинному своему подбородку и переплела на нем пальцы.
— Господин Школоначальник, — прошептала она, — я выслушала то, что вы сочли необходимым сказать. Это было великолепно. Я говорю, великолепно. Когда вы говорили о «жаре», я все поняла. Я, простая женщина, я говорю, простая женщина!
Она огляделась вокруг — помраченно, нервически, как бы поняв, что зашла чересчур далеко.
— Но когда я услышала, господин Школоначальник, что вы, вопреки своим убеждениям, решили убрать отсюда этого господина, — Ирма опустила глаза на тело у ее ног, — я поняла, что мой долг, долг хозяйки, попросить вас, моего гостя, обдумать все еще раз. Я не хочу, сударь, чтобы кто-нибудь говорил потом, будто один из ваших подчиненных покрыл мой салон позором, что его пришлось выволакивать отсюда. Пусть его усадят в кресло в каком-нибудь углу потемнее. Пусть ему дадут вина и пирогов, всего, что он захочет, а когда он вполне оправится, пусть присоединится к своим друзьям. Он оказал мне честь, я говорю, он оказал мне честь…
Тут Ирма наконец заметила брата. Миг — и она оказалась с ним рядом.
— О Альфред, ведь я права, верно? Жар это все, разве не так?
Прюнскваллор вгляделся в подергивающееся лицо сестры. Обнаженная тревога читалась на нем и обнаженное волнение, делавшее выражение его нежным почти до невероятия: первая заря любви заливала лицо сестры ясным светом. Дай Бог, чтобы любви неложной, подумал Прюнскваллор. Иначе она погибнет. На миг мысль о том, насколько проще была бы жизнь без нее, мелькнула в его голове, но Доктор отогнал эту скверную фантазию и, привстав на цыпочки, с такой силой сцепил за спиною ладони, что узкая, белейшая грудь его выпятилась, точно у голубя.
— Все или не все, дорогая моя сестра, он, тем не менее, есть такая вещь, которую удобно и приятно иметь под рукой — хотя, заметь, жар может сопровождаться изрядной духотой, клянусь всем, что оксидируется, еще как может, но Ирма, сладкая моя, предоставим оный самому себе, ибо меня, как врача, гложет мысль, что нам самое время что-то сделать с воином, павшим у твоих ног; мы обязаны о нем позаботиться, не так ли? Обязаны позаботиться, а, господин Кличбор? Во имя всего, что свято для людей моей причудливой профессии, обязаны…
— Только он не должен покинуть залу, Альфред, не должен покинуть залу. Он наш гость, Альфред, помни об этом.
Кличбор не дал Доктору ответить.
— Вы повергли меня во прах, госпожа, — сказал он совсем просто и склонил львиную голову.
— А вы, — прошептала Ирма, и густой румянец покрыл ее шею, — меня возвысили.
— Нет, сударыня… о нет! — пролепетал Кличбор. — Вы чрезмерно добры! — И, насмелясь, сделал решающий шаг: — Кто может питать надежду возвысить сердце, сударыня, уже танцующее средь млечного пути?
— Почему млечного? — спросила Ирма — не оттого, что ей хотелось снизить уровень разговора, но из привычки задавать прямые вопросы. Сколь бы ни поглощали ее тайны куда более важные, мозг Ирмы, стоявший, так сказать, особняком от дел, коими занималась душа, совершал, наподобие комара, собственные небольшие полеты — задавал пустые вопросы, разыгрывал глупые шутки — лишь для того, чтобы, когда его одернут, возвратиться на место и подчиниться на время голосу глубинной ее сути.
К счастью, Кличбору отвечать на этот вопрос не пришлось, поскольку Доктор поманил рукой двух господ в мантиях, и те подняли распростертого просителя с ковра и отнесли, точно деревянное изваяние, в освещенный свечами угол, где его поджидало уютное кресло с пышными зелеными подушками.
— Будьте так добры, господа, усадите больного в кресло, а я его осмотрю.
Мантиеносцы опустили негнущееся тело. Оно лежало — плоско, как доска, — всего только и опираясь, что головою о спинку кресла и каблуками о пол. Между этими оконечностями подсунули толстые зеленые подушки, чтобы они, как бы подпирая доску, приняли на себя вес маленького человечка; впрочем, никакого веса подушкам принять на себя не пришлось, так что пышности своей они не утратили.
Было во всем этом нечто страшненькое, и это нечто нимало не умерялось сияющей улыбкой, застывшей на лице пациента.
Роскошным движением Доктор сорвал с себя бархатный сюртук и отбросил его, как бы не имея в нем более надобности.
Затем он начал, точно фокусник, закатывать шелковые рукава.
Ирма с Кличбором застыли прямо за ним, вплотную. К этому времени кладези такта, из которых черпали профессора, почти обмелели, и вся орава стояла, наблюдая, в полном молчании.
Доктор отлично это сознавал, но проявлял свое знание, не говоря уж об удовольствии, вызываемом тем, что за ним наблюдают, разве что легким подрагиваньем.
Происшедшее изменило характер приема. Стихийная веселость и ощущение полной свободы получили едва ли не смертельный удар. На некоторое время — хоть кое-какие шутки еще звучали, а бокалы и наполнялись, и опустошались, — в зале воцарилось уныние, так что и шутки отпускались, и вино глоталось совершенно машинально.
Однако теперь, когда первая краска стыда сошла с профессорских щек; теперь, когда смущение стало лишь головным, когда у них нашлось занятие (ибо невозможно было устоять перед зрелищем, которое являл собой Прюнскваллор — стройный, в шелковой рубашке с закатанными рукавами, тонкий, как аист, с розовой, как у девушки, кожей, в очках, мерцавших пламенем свечей), — теперь, когда у них появилось все это, душевное равновесие стало возвращаться к профессорам, а с ним и надежда — надежда, что вечер не погублен безвозвратно, что он еще держит для них в запасе — раз Доктор занялся их парализованным, по всяческой видимости, коллегой, — хоть капельку столь редкого в их жизни безрассудства, от которого у профессоров уже чесались языки: ибо впервые за двадцать лет, повторяли они себе, им выпал случай нарушить бесконечный ритм Горменгаста, ритм, который, что ни вечер, направлял стопы их на запад — на запад, в их двор.