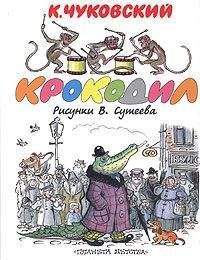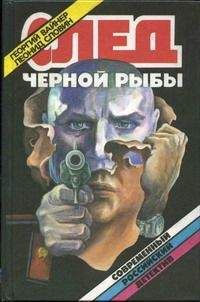Николай Романецкий - Конь в малине
И пошла писать губерния!
Как не пытался Зубрилов отмазать подчиненного, ничего у него не вышло. Жопа-то и у Зубрилова одна – своя!..
Особист получил повышение, а бывший капитан Ладонщиков попал в жернова репрессивной машины. То, что люди уже на Марсе, этой машине не мешает… Арест. Военно-полевой суд. Приговор. «За неисполнение приказа назначить наказание в виде смертной казни через расстрел. Ходатайство непосредственного начальника об отправке в штрафную роту отклонить».
Правда, мораторий на смертную казнь и таких приговоров касался, Россия – страна цивилизованная…
И сел Вадим Ладонщиков за стены каменные, дожидаться неизбежного конца – то ли пуль от расстрельной команды, то ли естественной смерти лет через сорок; без надежды на досрочное освобождение, без периодических, хоть и не частых, свиданий с женой (развелась-таки, не просто пугала!). Свидания хоть и не частые, но в них дети тоже зачинаются. А так род Ладонщиковых – под корень! Это вам не спасение рядового Райана!
И когда к Вадиму Ладонщикову пришли с предложением поучаствовать в секретном эксперименте с возможным изменением приговора после окончания эксперимента, он решил рискнуть, согласился…
59
Когда все закончилось, Катя меня не отпустила. Ее бедра по-прежнему стискивали мою поясницу, как будто жена боялась, что я исчезну вместе со сладострастием, испарюсь, улечу, сгину…
А мне вдруг пришла в голову дурацкая мысль. Даже в момент совокупления (в классической позе, разумеется) мужчина крепким телом прикрывает от возможной опасности лоно матери своих будущих детей. Предусмотрительна природа, ох предусмотрительна!..
Наконец Катя расплела бедра, я приподнялся на локтях, глянул в любимые глаза и сказал:
– Ну, здравствуй!
– Господи ты боже мой! – прошептала она. – Узнал?
– Узнал, кареглазая Лили.
– Кто такая? – встрепенулась Катя.
– Ты… Когда-нибудь расскажу.
Мы еще долго лежали, стиснув друг друга в объятиях не страсти, но нежности, и я опять вспоминал, прокручивал перед внутренним взором свою жизнь – ту, первую, настоящую, а не навязанную мне Борисом Соломоновичем Кунявским, царствие ему небесное.
– Я перед тобой виновата, Вадик, – прошептала наконец Катя. – Я тебя предала. Господи ты боже мой, как много мне надо рассказать…
– Не надо. Я все знаю.
– Все-все?
– Да, все-все.
– Откуда?
– А это не важно, Катюшенька! – Я коснулся губами ее пылающего лба.
И здесь она разрыдалась.
Я молчал – что тут можно было сказать!
– Он убил нашего ребенка, Вадим! – Слова прорвались сквозь рыдания. – И еще одного… Господи ты боже мой! А я убила его самого!
– Знаю! Он убил не только нашего ребенка. И не только вашего с ним… Он убил и других детей. Ты ни в чем не виновата, Катя. А если и виновата, так не мне тебя судить. – Я погладил вздрагивающие плечи. – Не наигрался, мальчик, в «казаков-разбойников»…
– Я всегда тебя любила!
– Знаю. И я тоже всегда тебя любил. Просто был дурак дураком, вояка без мозгов.
Она вздохнула, прижалась ко мне, и мы долго лежали молча. Лишь смотрели друг на друга. Потом она все-таки заснула. А я оставил ей записку, пообещав вернуться в десять, выключил телефон и поехал на Марсово поле.
60
Инга появилась ровно в девять:
– Привет, Максима! – Это была Инга-любовница. – От хвостов я избавилась. Куда поедем?
– Привет, – сказал я.
Она сразу почувствовала холодок в моем голосе и как-то скукожилась, сгорбилась, будто застеснялась своей груди. Я отвел глаза:
– Спасибо тебе, Инга. Мне удалось отыскать Савицкую.
– И?..
– И удалось вспомнить, кто я таков на самом деле.
Она сгорбилась еще больше:
– Ну и кто же ты?
– Мальчик, не наигравшийся в войну. И за эти игры мне еще долго придется платить по счетам.
Она не поняла, а я не стал объяснять. Потом она выпрямилась, и я вновь увидел, как любовница превращается в сотрудника спецслужбы.
– Савицкая согласилась свидетельствовать против Раскатова?
Я ответил на вопрос вопросом:
– Ты мне можешь дать его прямой телефон? У него ведь наверняка есть мобильник.
– Разумеется, есть.
– Дашь мне номер?
– Конечно… Но что ты задумал?
– Пока ничего. Просто интуиция подсказывает, что он мне понадобится, а я привык интуиции верить.
Инга пожала плечами:
– Заноси.
– Лучше запомню. Это безопаснее.
Она продиктовала десяток цифр. Я запомнил.
– Спасибо!
– Пожалуйста! – Она вновь пожала плечами. – И все-таки… Чего ты добился? Будет Савицкая свидетельницей или нет?
– Нет. Я этого не позволю.
– Ты?!. Но почему?
– Потому что она моя жена.
Инга охнула и сжала обеими руками шею, будто ей вдруг перестало хватать воздуха.
– Жена?! – Теперь передо мной стояла не любовница и не сотрудница Десятого управления.
Это искривившееся, несчастное лицо могло принадлежать только женщине, у которой секунду назад умер близкий человек.
– Прости, – сказал я.
– Н-ничего… – пробормотала она и судорожным жестом подняла руки к вискам.
– Прости! – повторил я. – Мне очень жаль.
Инга вдруг повернулась и деревянной походкой пошла прочь. Натолкнулась на фонарный столб, начала валиться на бок. Я бросился следом и схватил ее за локоть.
– Прости! – Мне нечего было сказать, кроме этого короткого слова.
Она подняла голову. В прекрасных – да-да, прекрасных, к чему кривить душой! – глазах стояли слезы.
– Прости, – повторил я в четвертый раз.
– Может быть, мы… – Сквозь слезы, как заморенный городской цветочек сквозь асфальт, пробилось ожидание и надежда.
– Нет, – сказал я. – Не могу, пойми…
Она заморгала – крошечные слезинки скатились по щекам, которых еще вчера касались мои губы. Но сегодня она была для меня недоступна.
– Конь… в… малине… – пробормотала она, медленно, с трудом, будто язык ей больше не повиновался.
Так же вот бормотала первая изнасилованная мною горянка, только слов я тогда не понимал. Стоял над нею, как могучий утес. Победитель, твою мать!.. Аника-воин, конь в малине!..
Больше Инга ничего не сказала, вновь пошла прочь. А я побрел в другую сторону. Потом все-таки обернулся.
Она смотрела мне вслед, и в глазах ее по-прежнему жило ожидание. Мигни я, и она побежала бы следом, как собачка за хозяином. Но мигнуть – значило стать последней сволочью. И остаться сволочью навсегда.
61
В Яниной квартире царила тишина. Напуганный ею, я кинулся в спальню, готовый к чему угодно.
Однако с Катей ничего не случилось – она просто спала. Как всегда, на правом боку, засунув руку под подушку.
Некоторое время я разглядывал ее безмятежное лицо. Конечно, оно изменилось. Когда мы прощались с Катей перед моим отлетом в Ставрополь, оно было опустошенным от разочарования (злобы моя жена не испытывала ни при каких обстоятельствах, это чувство было ей недоступно) и предчувствия близкой беды (теперь я понимал это, а тогда мне казалось, что Катя испытывает ко мне одно лишь отвращение. Дурак безмозглый!). Сейчас, несмотря на прорезавшие лоб глубокие трагические морщинки, она казалась мне юной и чистой, и, наверное, так оно и было… Женщина, которую любят, всегда юна и чиста, и ради одного этого стоит жить мужчине.
Я отнес на кухню пакет с купленными в ближайшем магазине продуктами и принялся готовить нехитрый ужин. Почистил картошку, помыл. Будто был в учебке, в наряде, на хозяйственных работах…
Постепенно в душу пришло некое странное чувство – то ли спокойствие, то ли умиротворение… Однако было оно сродни непосильному грузу, и никак мне было от него не избавиться.
Я думал о ситуации, в которой мы с Катей оказались, и, чем дальше, тем больше понимал – никого я еще не спас.
Я порезал картошку и достал из стола сковородку.
– Чья это квартира, Вадик? Как мы здесь оказались?
Я оглянулся.
Катя стояла на пороге, беспомощно озираясь.
– Ничья. Пришлось арендовать. Надо же было тебя куда-то привезти.
Катя поежилась:
– Что со мной? Голова будто чужая…
– Ты была больна.
– Больна? – Она поморщилась. – Подожди, подожди… Я помню, как убила Виталия, как ушла из… – Она замолкла и опять принялась ежиться. – Как выбросила пистолет в залив, хорошо помню. А дальше…
Я подошел к ней и обнял за плечи.
Она была холодна, как ледышка на проселочной январской дороге. А потом начала дрожать. Сначала легонько, словно от возбуждения, потом все больше и больше.
Я сжимал ее в объятиях, все крепче и крепче, однако было совершенно ясно, что близость моего тела тут совсем не при чем. То есть при чем, конечно, но совсем не в том смысле. Просто больше тревожиться Катя уже не могла, это было свыше ее сил, она подошла к той черте, за которой открывался один-единственный путь – в безумие, – и дрожь была защитой от него. Жизнь и так далеко завела ее, если она – та Катя, которую я помнил и любил, – оказалась способной на убийство. Жизнь и бывший муж…