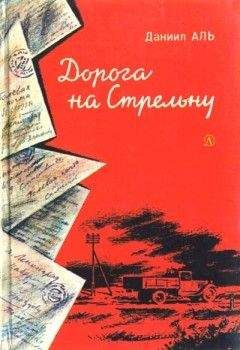Елена Грушковская - Багровая заря
Не знаю, сколько я так пролежала. Окошечко на двери открылось, и я услышала грубый окрик:
— Осуждённая номер двадцать семь, встать! Смирно!
Этот окрик поднял меня с койки, как удар бичом. Дверь открылась, и в мою камеру вошёл начальник тюрьмы. Он был без оружия: его сопровождал вооружённый саблей надзиратель. Войдя, он окинул меня взглядом, с усмешкой оценивая мой внешний вид.
— Ну, и что это значит, осуждённая Аврора Магнус? — спросил он холодно. — Плохо, плохо вы начинаете. Не успели прибыть, как уже кидаетесь с кулаками на охрану. А это что? — Он прошёл в глубь камеры и посмотрел на окно, потом обернулся и снова взглянул на меня. — Это вы разбили?
Я молчала. Г-н Август Минерва подошёл ко мне и сказал спокойно, но так, что мурашки по телу пробежали:
— Попрошу вас отвечать, когда я с вами разговариваю.
— Так точно, я, — ответила я. И, вспомнив, добавила: — Сэр.
— Ну, и зачем? — спросил он. Не злобно, а как-то насмешливо. — Себе же хуже сделали. Теперь у вас в камере будет сквозняк.
— Я не боюсь сквозняков, сэр, — сказала я. — Я люблю свежий воздух.
Он усмехнулся.
— Ну, как знаете. Впрочем, вели вы себя сегодня плохо, так что вам следует наказание. В штрафной изолятор мы вас на первый раз сажать не будем, а вот обеда вы сегодня не получите. Но если в будущем повторится что-то подобное, штрафного изолятора вам не избежать. Вы пока не знаете, что это такое, и от всей души желаю вам этого не узнать. Хотя, — добавил он, досадливо морщась, — я уже понял, что вы за птица. И уже предвижу, что ваше досье будет пестреть взысканиями. Очень жаль.
Начальник тюрьмы вышел, и дверь за ним закрылась. Что-то было такое в этом невзрачном и на первый взгляд ничем не примечательном типе, отчего слабели колени и холодели кишки. Под его холодным взглядом какая-то невидимая сила вытягивала руки по швам, втягивала живот и выпячивала грудь. Он не кричал, не ругался, просто смотрел этим взглядом — и тело словно сковывали железные обручи, фиксирующие его в положении «смирно». Ничегошеньки необыкновенного не было в его гладком и сытом, чисто выбритом лице, стрижка у него была самая простая, короткая и аккуратная; ни ястребиного носа, ни нависших бровей, ни жуткого оскала — просто заурядное, не слишком красивое, но и не уродливое лицо, какое могло бы быть, к примеру, у какого-нибудь чиновника среднего звена. Оно было какое-то усреднённое, универсальное, как бы составленное из деталей стандартного размера и формы и лишённое какой бы то ни было яркой индивидуальности, но тем резче на нём выделялся его гипнотический, властный взгляд — как удушающая хватка Дарта Вейдера.
5.6. Сосед— Эй, новенькая! Двадцать седьмая! Привет. Меня зовут Каспар. Я твой сосед, двадцать шестой.
Слух хищника острее слуха кошки, и толстая стена, отделявшая меня от соседней камеры, не была для улавливания звука слишком большим препятствием. К тому же она была не идеальна, в ней были трещины и пустоты, а потому голос моего соседа долетал до меня только слегка приглушённым. Я приподнялась на локте.
— Привет… Меня зовут Аврора.
— На сколько ты здесь застряла?
— На пять лет. А ты?
— У меня десятка, но через три года я откидываюсь.
— За что ты здесь?
— Об этом не принято спрашивать, двадцать седьмая. И ты тоже можешь не отвечать на этот вопрос. Это не имеет значения.
— Значит, ты здесь уже семь лет… Скажи, здесь можно выжить?
— Ну, раз я здесь уже семь лет, то сама видишь, что можно. Главное — не вешать нос. Что, без пайка осталась?
— Да… За то, что пыталась ударить надзирателя и разбила окно.
— Молодец, двадцать седьмая. В первый же день отличилась. Учти, здесь тихонь не уважают. Чересчур психовать не советую, но время от времени показывать зубы можно и нужно. А то расклеишься. Надо держаться бодрячком, поддерживать в себе дух, так сказать… А то они сделают из тебя тупую скотину. Как тебе наш босс?
— С виду — так себе, а взгляд у него… Кровь стынет.
— Да, потому-то он и главный. Он тебя уже невзлюбил. Но ты перед ним не лебези, не советую. Хамить и нарываться не надо, но и прогибаться не стоит — если ты себя хоть капельку уважаешь. И не бойся — страх он за милю чует. Будешь бояться — всё, считай, тебе крышка.
Окошко двери со стуком распахнулось.
— Разговоры прекратить! Осуждённая номер двадцать семь! Осуждённый номер двадцать шесть! Встать! Кругом! Вперёд, лицом к стене, руки за голову, ноги на ширину плеч! Локти и лоб касаются стены. Стоять, пока не дам отбой. И чтоб ни звука!
Упираясь лбом и локтями в стену под окном, я вслушивалась в пространство. Слева и справа от меня, за стенами, находились такие же, как я, существа. Подо мной — тоже. Вокруг нас были стены замка, вокруг замка — остров, а вокруг острова — море.
5.7. Жалоб и пожеланий нетПодъём был в четыре утра, тогда как спать нас отправляли в одиннадцать. Ровно в четыре со стуком открывались дверные окошки, проходящий по коридору надзиратель долбил в двери дубинкой и орал:
— Подъём! Подъём! Кто не встанет — не получит жратвы!
Встав, полагалось стоять и ждать. Заместитель начальника тюрьмы МАксимус Этельвин совершал утренний обход. На задаваемый им вопрос: «Жалобы? Пожелания?» — полагалось отвечать: «Жалоб и пожеланий нет, сэр», — даже если они были. Этому меня научил мой сосед, осуждённый номер двадцать шесть, Каспар.
— Никогда ни на что не жалуйся и ни о чём не проси. Если заболела, скажи, что схватила насморк, но чувствуешь себя удовлетворительно. Тебе разрешат сходить к доку. Если чувствуешь, что даёшь дуба, скажи, что тебя слегка лихорадит. Тогда док, быть может, придёт к тебе сам.
5.8. Дни и ночиДовольно много времени узник торчал один в свой камере. Он мог заниматься там, чем хотел: думать, ходить из угла в угол, заниматься гимнастикой или онанизмом, но только не спать. Спать в неположенные часы было запрещено. Для предотвращения этого время от времени открывалось окошечко двери, и если узник в это время лежал на койке с закрытыми глазами, его угощали дубинкой по рёбрам. Спать полагалось с двадцати трёх ноль ноль до четырёх ноль ноль, и ни в какое другое время.
За малейшее взыскание отправляли в карцер — о тамошних условиях речь пойдёт позднее. Забегая вперёд, скажу, что я попадала туда за весь срок шестнадцать раз. Два раза, находясь там, я была близка к впадению в анабиоз, но каким-то чудом выжила.
Получить от начальника колотушку было обычным делом. Надзиратели били нас и за провинности, и просто так, ради своего удовольствия. «Провинностью» мог стать даже косой взгляд. А дубинки у наших стражей были железные, рёбра ломали на счёт «раз». Да и руки-ноги такой дубинкой можно было перебить. По голове бить надзирателям запрещалось… впрочем, запреты на начальство практически не распространялись. А в избиении они знали толк и калечили нас нещадно. Переломы при питании кроличьей кровью срастались долго и мучительно.