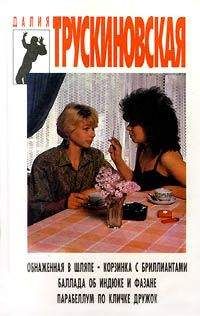Далия Трускиновская - Окаянная сила
— Девка!..
Было в нем предостереженье пополам с упреком.
Не на то дал Карпыч Алене прикопленные на помин души деньги, чтобы ей сейчас уносить ноги со двора Родимицы, Кореленки, или как там звали ту Устинью… Не для того он смертушку на себя накликал, чтобы ей, дуре, так с проклятьем и помереть. И укладка в узле — тоже ведь передать нужно…
Алена толкнула дверь и оказалась в сенцах. Дух из помещения шел тяжелый. Даже коли б не знала его Алена, всё равно сразу сказала бы — смертный. Не то, как от немытого тела старческого неухоженного, не то, как от запущенной избы, от грязи, от гнили, а как будто всё вместе…
Она перекрестилась и вошла.
Устинью Родимицу Алена заметила не сразу, да и та не сразу подала голос. Старуха лежала на лавке, с головой укрывшись большой и тяжелой шубой, мехом наружу. Алена не сразу сообразила, что это такое громоздится, но вдруг увидела, что из-под шубы свесились и легли на пол длинные, густые, седые волосы. Что изумило — каждый волос виделся явственно и был куда толще, чем обычный женский. У соловых лошадей бывает такая желтоватая грива, да и волос того же свойства — толстый, упругий, прямой.
— Бог в помощь, хозяйка, — неуверенно сказала Алена, вглядываясь в угол напротив двери, где место образам.
Образов не оказалось.
И перекреститься на них потому было невозможно.
Но и убежать, как вдруг нестерпимо захотелось, тоже было нельзя — уж тогда Алена точно померла бы в лесу ночью от страха.
Та, что лежала, укрывшись шубой, голосу не подала.
— Хозяйка, жива ли ты? — спросила Алена. — Коли жива — сделай милость, отзовись.
Милости она не дождалась.
Однако присутствия смерти в этой избе Алена не ощутила.
— Меня к тебе Данила Карпыч послал, промыслитель Кардашов. Помер Данила Карпыч, а тебе приказал долго жить и вот — укладочку передать…
Более Алена и не знала, что говорить.
— Не могу… — это даже не стон был, а звериный хрип, и как только Алена смысл разобрала. — Ох, не могу…
— Это ты — Устинья Родимица? — для верности спросила она, слишком, однако, от двери не удаляясь.
— Ох, я… — раздалось из-под шубы. — Ох, смертушки моей нет…
Голос сделался более внятен.
— Тебе Данила Карпыч Кардашов кланялся, укладочку велел снести, — повторила Алена, торопливо развязывая узел. — И просил, чтобы сжалилась ты над моим сиротством, сделала по его прошению…
— Карпыч? Бык? Поди сюда…
Шуба зашевелилась, и тут оказалось, что лицо Родимицы прикрыто рукавом, со щелкой для дыхания, и рукав сполз, и лицо появилось, гладкое белое лицо, не той старухи, какой должна бы стать былая товарка, а то и полюбовница Карпыча, а баба хоть и немолодая, но еще в сочных бабьих годах, живущая в холе и едящая сладко. Кабы не бледность…
— Коли Бык тебя, девка, прислал, стало быть, отпели Быка? — спросила Родимица.
— Отпели, перед самым Успеньем Богородицы, — подтвердила Алена. — И посылает он тебе укладочку…
— В хорошую пору помер, — одобрила Родимица. — А каково отходил?
— Как голубок — подышал, вздохнул и преставился, — отвечала Алена, сама до последнего сидевшая с Карпычем в его каморке.
— Успел, стало быть… Успел… Всегда Бык хитрее меня был. Жаль, девушка, угостить мне тебя нечем, совсем я плоха стала, и людишки меня позабыли. Как поняли, что последние мои денечки настали — куда и подевались… Ох, тошненько мне пришло… Напала совесть и на свинью, как отведала полена!..
— Может, водицы тебе поднести? — спросила Алена, вспомнив, что у Карпыча в последние его часы утроба лишь воду принимала.
— А поднеси, — не столь попросила, сколь дозволила ведунья.
Поставив добытую из узелка укладку на стол, а узел примостив на подоконной лавке, Алена выскочила в сени. Когда же отыскала она ведрышко, сбегала на Северку, принесла воды и, с немалым трудом найдя в этом хозяйстве чистую кружку, приподняла Родимицу за плечи, то обнаружилось, что ведунья лежит под шубой без сорочки.
Тело у Устиньи Родимицы тоже оказалось гладким и на удивление чистым, так что непонятно стало Алене, откуда же идет скверный дух.
— Я и руду тебе сбросить могу, — похвасталась Алена. — Меня Карпыч обучил. Ему помогало. Есть у тебя рожок?
— Рожок-то есть, да что толку? — Родимица отхлебнула воды, но вдруг окаменела, потом по ней дрожь прошла, словно по испуганной лошади, и вода пролилась на грудь.
Алена хотела утереть ведунью хоть мохнатым рукавом, но так и замерла, не прикасаясь к ее по-молодому налитой груди.
На Родимице не было нательного креста.
— Не… бойся… — с трудом сказала ведунья. — Побудь… со мной… пока отойду… Я заплачу… у меня есть… и деньги, и всё… возьмешь…
— Нет! — вспомнив, о чем по дороге предупреждали грибницы, вскрикнула Алена. — Я так тебе помогу, Христа ради! Ничего не приму!
— А-а!.. Хра-а-а!.. — захрипела вдруг Родимица и закатила глаза.
Алена как стояла над ней, так и окаменела.
Белую гладкую кожу прямо на глазах усеяли крошечные алые точки, принялись расти, стали как семенной жемчуг — и Алена поняла, что это сочится кровь.
Ни с чем не сравнимую боль испытывала сейчас ведунья, которой Бог не посылал смерти.
Она мычала, хрипела, вскидывалась — и снова падала на скамью. Вдруг судорога приподняла ее и бросила со скамьи оземь. Руки ведуньи взлетели, сомкнулись на груди и стали раздирать грудь, чтобы одной болью заглушить и перебить другую.
— Смертушки мне… Смертушки!.. — простонала Родимица.
Страшный смрад изошел у нее изо рта.
— Господи Иисусе! — без голоса прошептала Алена.
— Доченька, пожалей!.. О-о-о!..
Родимица выговорила эти слова так быстро, что Алена не сразу и разобрала их. Боль дала ей крошечную передышку, как раз на два слова, и снова скрутила, и капли крови, сливаясь в ручейки, ползли по лицу и плечам, и разверзались неглубокие раны, в которых кипело и бурлило…
Алена опустилась рядом на корточки и, захватив в горсть подол, попыталась отереть хотя бы лицо Родимицы. Пальцы ее коснулись кожи и сами взвились, потом лишь Алена осознала, что это такое было. Родимица изнутри налилась жаром, и жар этот, испепеляя внутренности, выгонял наружу кровь.
Не могла Алена смотреть на это мучение, превышающее пределы сил человеческих.
— По-жа-лей!..
Черными язвами взялось тело ведуньи…
И не стало вдруг в Алене страха.
Она, отворачивая от смрада лицо, шагнула вперед, склонилась над Родимицей и протянула руку:
— Давай уж!..
Изъязвленная, окровавленная рука легла в ее ладонь.
— Прими… — прошептала Родимица, едва в силах приподнять голову.