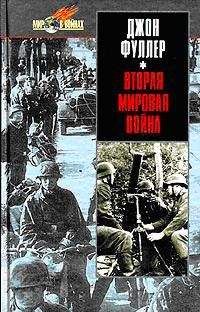Анна Мистунина - Искупление
Ко времени ночевки последние телеги едва успели миновать ворота столицы. Простившись с Морой под ажурными сводами ближней рощи, Кати пешком направилась к командным палаткам, где ее ждали ужин, отдых, ненавязчивая забота девушек-прислужниц и почти невыносимая близость златокудрого повелителя дикарей.
Он беседовал с войсковыми командирами, все еще не снявший плаща и не отряхнувший дорожной пыли. Завидев Кати, быстро прервал разговор и пошел навстречу. Приблизившись, взял ее руку, поцеловал по дикарскому обычаю.
— Сильная. С возвращением.
— Благодарю, император. Сверху вы производите устрашающее впечатление.
— Надеюсь, только на врагов, — улыбнулся император и нехотя выпустил ее пальцы. — Смею ли я ожидать увидеть вас за своим столом?
— Конечно.
— Ваша палатка слева от моей. Уверен, будет сделано все возможное, чтобы вы чувствовали себя удобно в походных условиях…
— Я восемь лет прожила в походных условиях, император, — и, торопясь прогнать печаль из его взгляда, Кати добавила: — Я рада быть сегодня здесь.
— Я счастлив видеть вас здесь, Сильная, — сказал император, предлагая ей руку с тем, чтобы проводить к палатке.
Командиры, не спешившие расходится, наблюдали этот обмен любезностями от начала до конца. В их чувствах было все, кроме удивления. По скорости распространения слухов дикари ничуть не уступали Владеющим Силой.
Ужин, поданный в большой императорской палатке, был скромным по дворцовым понятиям, но вполне достаточным для Кати: хлеб, несколько видов мяса и вино. За столом, кроме Верховного жреца и Атуана, присутствовали четверо командиров, в том числе запомнившийся Кати большерукий граф Вирик. Говорили о лошадях, о состоянии дорог, о привалах и ночевках, об источниках воды и подвозах продовольствия, так что Кати в основном молчала. Взгляд императора то и дело возвращался к ее лицу, предоставляя сидящим за столом самим делать выводы. Скрывать свои чувства владыка дикарей не собирался. Но, проводив после ужина Кати к ее палатке, император поцеловал ей руку с величайшим почтением и удалился, даже не попытавшись войти.
Следующий день Кати провела в седле, без смущения оттеснив жреца Атуана с привычного места подле императора. Изящная серая лошадка, приготовленная для нее, была послушна по природе; капля магии сделала их настоящими друзьями. Откровенную влюбленность императора мог не заметить разве что слепой, императорская же свита, военачальники и жрецы на зрение явно не жаловались. Перешептывания разбегались по рядам, как волны от брошенного камня. Магический слух Кати без труда различал их: войско идет на битву с колдунами, а повелитель ухлестывает за колдуньей — каково? Интересно, что звучало это чаще с гордостью, чем с гневом, как будто любовные победы императора добавляли значимости и его солдатам. Жрецы, впрочем, подобной снисходительности не проявляли. Но и роптать в открытую не смели.
Верховный жрец хранил обычную непроницаемость. После дневного привала он занял место в носилках, то ли отчаявшись сдержать императора, то ли уступив наконец старческой немощи. Атуан держался позади.
Завитки волос на висках императора искрились под солнцем. Кати в открытую любовалась ими.
— Этим же путем мы ехали на последнюю войну с аггарами, — говорил ей император. — С тех пор уже четырнадцать лет мы живем с ними в мире. Я дорого отдал бы, Сильная, за то, чтобы этот поход имел такое же завершение.
— Зачем вы вообще с ними воевали? — спросила Кати. — Не так давно вы были одним народом, у вас общая кровь. Земли хватает с избытком. Что вам делить?
Император усмехнулся:
— Такова наша природа, Сильная, не зря вы зовете нас дикарями. На самом деле войны всегда начинались по воле храма — по откровению Бога, если верить жрецам. Когда-то предки аггаров не присоединились к восстанию против колдунов, а после победы не приняли власть храма и императора. Формально это и было поводом для войн. Прежде я считал это глупостью и винил во всем властолюбие жрецов.
— А теперь?
— Теперь я смотрю глубже — так, как смотрели жрецы. Войны с еретиками были нужны Империи. В противном случае, не имея врагов, чем мы стали бы за прошедшие века? Мирными земледельцами, неспособными удержать меч? Играющими на лугу детьми? Вернувшиеся колдуны взяли бы нас голыми руками. Жрецы понимали это, понимали, что вы однажды вернетесь и вернетесь отнюдь не с миром. Они выбрали жестокий путь — но, увы, единственно верный.
Он помолчал. Стук копыт был как беспрестанные грозовые раскаты. Улыбнувшись с обезоруживающей прямотой, император добавил:
— Впрочем, мы и без того неплохо поддерживали боевую форму. Междоусобные войны в Империи прекратились только в царствование моего деда, когда усилилась императорская власть.
— Я никогда не смотрела на это с такой стороны, — призналась Кати. — Ты прав, император, мы считали вашу воинственность всего лишь признаком дикости. Я о многом прежде не задумывалась, а ведь во мне течет и ваша кровь.
— Я знаю. Кар говорил мне.
— Он… много обо мне говорил?
— Не очень, как я сейчас понимаю. Будь на его месте я, госпожа моя Сильная Кати, я не смог бы ни говорить, ни думать ни о чем другом.
Вспышка его чувств заставила Кати с беспомощной улыбкой опустить голову.
— Он думал о тебе, император. И теперь я его очень хорошо понимаю.
Это было сказано — пусть и на беду. Радость императора взвилась обжигающим костром. Вслух же он не сказал ничего, лишь тронул поводья, так что лошади пошли совсем рядом. Так, бок о бок, они ехали до самого вечера, говоря обо всем и ни о чем, странно счастливые среди охваченного войной мира. Настоящее было прекрасно; вздумай же кто-то напомнить Сильной о видениях будущего, Кати рассмеялась бы ему в лицо.
Когда сигналы труб возвестили остановку, император спешился первым и протянул руки, чтобы помочь ей сойти с седла. Судя по оглушительному вдоху всех, кто оказался рядом, это было далеко за рамками обычной любезности. У юноши, державшего под уздцы императорского коня, от удивления отвисла челюсть. Император остался невозмутим, и Кати, вслед за ним — тоже.
Они сидели рядом за ужином и после ужина вместе прогуливались вдоль палаток. Лагерь постепенно затихал. Немногие встречные низко склонялись перед своим владыкой и провожали их долгими удивленными взглядами, на которые император обращал внимания не больше, чем на окрепший к ночи ветер. Кати всем телом ощущала его страсть, понимая уже, что император не сделает попытки ее утолить, и не зная, радоваться ей или огорчаться. Ничто в воспоминаниях его подданных не указывало на подобную сдержанность, наоборот. Разобрать же смутные намерения императора Кати не могла.