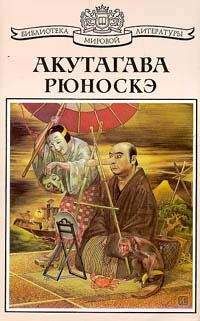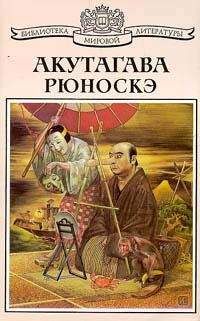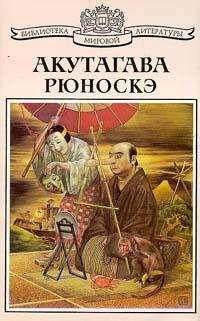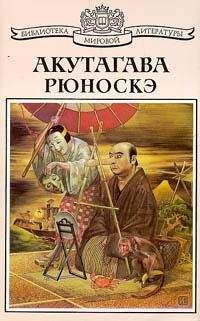Антология Фантастической Литературы - Борхес Хорхе Луис
Четыре знакомые мне фамилии.
— Объясните, пожалуйста, что же все-таки означает эта безграмотная писулька? В чем там смысл? — поинтересовался я.
— «Меня... часто... одолевала усталость за этим делом» — вот в чем тут смысл.
Он вернул мне листок, и я умчался, не поблагодарив специалиста, ничего ему не объяснив, даже не извинившись.
Моя забывчивость была вполне простительна. Мне из всех смертных была дарована возможность написать лучшую в мире повесть — историю греческого раба на галере, записанную с его слов, — ни больше и ни меньше. Немудрено, что свои грезы Чарли называл явью. Парки, которые так тщательно закрывают дверь в конце каждой прожитой нами жизни, на сей раз проявили беспечность, и Чарли заглядывал, сам того не сознавая, туда, куда не дозволено глядеть никому из смертных в ясном уме и здравой памяти с Начала Времен. И самое главное — он не подозревал, какие познания продал мне за пять фунтов; и останется и впредь в неведении, ибо банковские клерки ничего не смыслят в метемпсихозе, а коммерческое образование не включает изучение греческого языка. Он будет поставлять мне, — тут я проделал несколько балетных па перед безмолвными египетскими богами и рассмеялся, глядя в их щербатые от времени лица, — сведения, которые придадут моей повести достоверность — такую достоверность, что мир назовет ее наглой подделкой, и лишь я, я один, буду знать, что все в этой повести правда. Я, я один, возьму в руки драгоценный камень, чтобы гранить и полировать его. И я снова пустился в пляс среди богов, пока не заметил полицейского, направлявшегося в мою сторону.
Отныне мое дело — лишь поощрять Чарли к рассказам, а это нетрудно. Но я позабыл про эти проклятущие поэтические сборники. Чарли раз за разом являлся ко мне, бесполезный, как целиком записанный валик фонографа, — опьяненный Байроном, Шелли либо Китсом. Теперь, зная, кем был Чарли в прежних воплощениях, я безумно боялся пропустить хоть слово в его болтовне, и от него не укрылись ни моя почтительность, ни мой интерес. Он неправильно истолковал их как внимание к нынешней сути Чарльза Мирза, для которого жизнь была нова, как для Адама, и как уважительное отношение к его декламации; Чарли испытывал мое терпение, готовое лопнуть, читая мне стихи — не свои отныне, а других поэтов. Я страстно желал, чтобы стихи всех английских поэтов стерлись в памяти человечества. Я хулил самые звонкие поэтические имена, потому что они уводили в сторону от рассказов о галере и могли в дальнейшем склонить к подражательству; но я сдерживал нетерпение, уповая на то, что первый горячий энтузиазм иссякнет и парень вернется к своим грезам наяву.
— Что толку рассказывать вам о моих замыслах, когда эти ребята сочинили такое, что впору ангелам читать, — посетовал он как-то вечером. — Почему бы и вам не написать что-нибудь в этом духе?
— Не скажу, чтоб ты был особенно учтив со мной, — заметил я, с трудом сохраняя самообладание.
— Я же отдал вам свою повесть, — буркнул Чарли, снова погружаясь в «Лару» [77].
— Мне нужны подробности.
— Все, что я придумывал об этом чертовом корабле, который вы называете галерой? Да это проще простого. Сами можете насочинять. Пустите-ка газ чуть поярче, хочется еще почитать.
Я был готов разбить рожок над головой этого редкостного глупца. Разумеется, я бы и сочинил все сам, знай я то, что, сам того не ведая, знал Чарли. Но поскольку двери моего прошлого существования были наглухо закрыты, я волей-неволей ждал, когда Чарли соблаговолит что-нибудь мне рассказать, и старался удержать его в добром расположении духа. Минутная неосторожность могла погубить бесценное откровение; порой он откладывал книжки в сторону, — Чарли хранил их у меня, ведь мать, увидев их, возмутилась бы безрассудной тратой денег, — и погружался в свои морские видения. И снова я проклинал всех поэтов Англии. Прочитанные книги придавили, исказили, расцветили восприимчивое воображение банковского клерка, и в результате зазвучал нестройный хор чужих голосов — так невнятно слышится песня по городскому телефону в самое горячее время дня.
Чарли вел рассказ о галере — знай он, что сам на ней плавал! — и иллюстрировал его заимствованиями из «Абидосской невесты». Описывая жизнь героя, он цитировал «Корсара», вставляя в свой рассказ исполненные трагизма размышления на темы морали из «Каина» и «Манфреда» [78], уверенный, что я воспользуюсь ими. Только когда речь заходила о Лонгфелло, дисгармония встречных звуковых потоков прекращалась, и я знал, что устами Чарли глаголет истина, ибо он полагается лишь на свою память.
— Что ты думаешь об этой поэме? — начал я как-то вечером, уже зная самый лучший способ настроить Чарли на нужный лад, и, не дав ему опомниться, одним духом прочел «Сагу о короле Олафе» [79].
Чарли слушал, открыв рот, раскрасневшись, постукивая пальцами по спинке дивана, на котором лежал, пока я не подошел к «Песне Эйнара Тамберсквельвера»:
Чарли ахнул, зачарованный.
— Это, пожалуй, посильней Байрона, — отважился заметить я.
— Сильнее? Еще бы! Это правда! Но откуда он все это знал?
Я повторил предыдущее четверостишие:
— Откуда ему было знать, как разбивается галера, как весла вырываются из рук и всюду слышно это «з...з...ззп»? Да ведь только вчера ночью... Пожалуйста, прочтите еще раз «Шхеру криков».
— Нет, я устал. Давай поговорим. Так что же случилось прошлой ночью?
— Мне привиделся кошмарный сон о нашей галере. Снилось, будто я утонул во время боя. Дело было так: мы вошли в гавань вместе с другой галерой. Вода была совершенно неподвижная, только от наших весел она вспенивалась. Вы знаете, где я сижу на галере? — смущенно спросил Чарли: его сковывал извечный страх англичанина показаться смешным.
— Нет, ты мне об этом не рассказывал, — ответил я смиренно, и сердце мое забилось сильней.
— На верхней палубе, от носа — четвертое весло с правой стороны. Нас было четверо гребцов, прикованных к этому веслу. Помню, я глядел на воду и все пытался высвободить руки от кандалов, пока не начался бой. Потом мы подошли вплотную к другой галере, и все их стрельцы прыгнули к нам на борт; моя скамья проломилась, я лежал, распластавшись на палубе, а на мне три других парня и огромное весло, придавившее всех нас своей тяжестью.
— А дальше что было?
Глаза у Чарли горели. Он вперил взгляд в стену за моим креслом.
— Я не знаю, как шел бой. Я так и лежал на палубе, и люди топтали меня почем зря. Потом наши гребцы с левого борта, прикованные к веслам, как вы сами понимаете, заорали и принялись табанить. Я слышал, как шипела вода, галера вертелась, как майский хрущ, и, даже лежа внизу, я понял, что на нас идет другая галера — протаранить нас с левого борта. Я с трудом приподнял голову и увидел через фальшборт, как она несется прямо на нас. Мы хотели встретить ее носом к носу, но замешкались. Успели только вильнуть в сторону, потому что та галера, что была справа, притянула нас к себе крючьями и удерживала на месте. А потом — Боже милостивый, вот это был удар! Все весла по левому борту хрустнули, когда атаковавшая галера врезалась в нас носом. Весла нижнего яруса пробили рукоятками палубную обшивку, одно из них взлетело прямо в воздух и грохнулось возле моей головы.
— Как же это случилось?
— Нос атакующей галеры заталкивал короткие нижние весла обратно в уключины, и я слышал, какой переполох начался на нижних палубах. Потом она врезалась носом нам в борт почти посередке, и мы накренились; тогда парни с правой галеры выдернули крючья, отвязали канаты и забросали нашу верхнюю палубу стрелами, кипящей смолой или еще какой-то жгучей дрянью; наш левый борт поднимался все выше и выше над водой, а правый медленно кренился, и, повернув голову, я увидел, что вода неподвижно стоит на уровне правого фальшборта, а потом она всколыхнулась и обрушилась на всех, кто лежал вповалку с правой стороны; тут меня ударило в спину, и я проснулся.