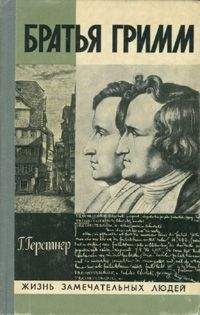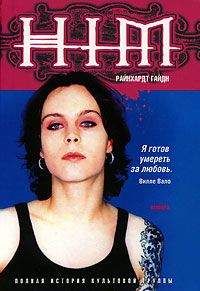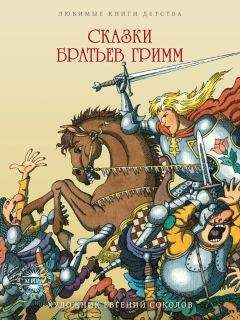Гайдн Миддлтон - Последняя сказка братьев Гримм
— Прошу прощения?
— Могу я видеть профессора? Войти к нему?
Тиканье часов в тишине казалось громче. Куммель вновь почувствовал на себе взгляд женщины с портрета. А когда фрейлейн наконец ответила, слова словно переплыли из ее уст в его.
— Он не может говорить. Он едва двигается.
Она бросила последний взгляд украдкой, вероятно, поняла, чего он хочет. Обойдя кресло, она вышла из своего маленького укрытия.
Тиканье часов, казалось, стало громче, а через несколько ударов и вовсе превратилось в сухое странное пощелкивание, которое словно вернуло Куммеля в Гессен. Только теперь оно звучало не как стук кости о кость, а как клацанье зубов. Да, точно: зубов. В этой занавешенной и задрапированной комнате был еще кто-то, и он в это время жевал и чавкал. Куммель содрогнулся при мысли о том, как выглядит этот едок.
Фрейлейн остановилась на пути к двери, словно прислушиваясь. Она была так близко, чтобы он мог бы взять ее за руку, если бы захотел.
— Вы слышите? — прошептал он. — Или мне только кажется?
Она полуобернулась к нему, но тиканье уже прекратилось. Куммель видел, что волосы ее были собраны в тугой пучок, словно она яростно воткнула в него все имевшиеся под рукой шпильки. Когда она заговорила, он едва различил ее голос и увидел, что в глазах ее появился ужас.
— Чего ты хочешь?
— Пустите меня, — пробормотал он. — Пустите меня к нему, пожалуйста.
Якоб выскользнул незамеченным из франкфуртской Паульскирхе и пересек пустой Рёмерплац. Шум дебатов еще звучал у него в голове. Так много голосов и так мало смысла. Этим теплым сентябрьским вечером мечта его рухнула. Первая Национальная ассамблея всех германских земель канула в Лету. И он знал, что в качестве члена 29-го избирательного округа он больше не появится в тихой деревянной гостинице. Ибо весь эффект, произведенный его страстными обращениями, включая стремление гарантировать свободу не только немецким гражданам, но и тем, кто приехал жить на немецкую землю, — был таков, что ему вообще не стоило открывать рот.
У него был великолепный предлог для возвращения в Берлин: болезнь брата. Не говоря уже о двух часто болеющих племянниках. В его шестьдесят три от него и не ждали, что он выдержит сырую, холодную франкфуртскую зиму. Но он намеревался остаться; за несколько месяцев до этого ничто не могло удержать его от участия в революционных процессах вплоть до их эпохального конца.
Здесь, на священной земле Гессена, он надеялся сыграть роль повитухи при рождении гордого нового рейха, объединенного мирным путем, и с конституционным управлением. Но неделю за неделей, заседание за заседанием он понимал, что его идеалам нет места на этой грязной политической арене, что ни одно государство не откажется от своего суверенитета иначе как под угрозой применения силы, до которой в итоге и дойдет.
Спокойно, сказал он себе. Ему снова нужна была тишина, чтобы «колоть дрова» и так проводить свои дни. Он взял ключ от комнаты и тяжело поднялся по лестнице. Ему трудно было глотать. Он пытался прочистить горло, но безуспешно. Руки дрожали, и когда он шел в комнату, которую приспособил под кабинет, правая щека дернулась, а лицо онемело.
Он поставил три стола и кресло у окна, воссоздавая обстановку, что была в Берлине. Стол слева от него был завален корректурой «Истории немецкого языка», которая должна была выйти в двух томах до конца 1848 года. Он взял карандаш, и взгляд его упал на две опечатки в одном предложении предисловия, написанного в порыве патриотизма всего несколько недель назад. Вместо того чтобы вставить пропущенные буквы, он написал на полях правильный вариант:
Эта книга учит, что наша нация после того, как был сброшен римский гнет, принесла свое имя и свободу романским народностям в Галлии, Италии, Испании и Англии, и своей огромной властью определила победу христианства, став непроходимой преградой в центре Европы на пути яростных славян.
Он смотрел на то, что так долго писал. Смеркалось, но он не зажигал лампу. Отвернувшись от корректур, посмотрел на письмо Августы, которой собирался ответить уже неделю.
Во время его одинокого пребывания во Франкфурте она писала ему очень часто. Он хранил ее письма возле кровати, прижав окаменевшей ракушкой. В последнем она описывала обед, который дали Вилли и Дортхен в честь ее шестнадцатилетия — «но, дядя, без тебя это был праздник лишь наполовину». Она так отчаянно пыталась скрасить его одиночество. Он должен был написать ей что-то в ответ, но написал совсем не то, что ей хотелось бы прочесть: «Мы боимся очередных проявлений жестокого насилия, особенно против евреев… Неудачная попытка объединить Германию сделала все остальные достижения незначительными…» Он никогда не умел говорить ей то, что она хотела слышать, и сомневался, что когда-нибудь сможет. Какова мать, такова и дочь, думал он, и его охватывал внутренний ужас.
Он посмотрел туда, куда положил последние материалы для «Словаря». Отодвинул кресло и опустился в него, уронив голову на грудь. Взгляд его пробегал по силуэтам величественных крыш «тайной столицы Германии», как ее называл Гёте. Как она могла не быть тайной, когда самой страны не существовало, когда «Германия» была теперь не реальней, чем королевство, выпавшее из кармана правителя?
Совершенно неожиданно для себя самого Якоб заплакал. Слезы текли по щекам, подбородок дрожал. Он последний раз плакал так давно, что сейчас вдруг почувствовал себя другим человеком, одновременно моложе и старше. И он никак не мог остановиться.
В голове возникали образы погибших на баррикадах Берлина и Вены; ни в чем не повинных «ростовщиков» на юго-западе Гамбурга, чьи дома под покровом темноты подожгли лицемеры со средневековыми мозгами. Он проклинал себя за то, что мог подумать, будто ветер истории подует в его сторону. Ветер оставался таким, как всегда: слова, шум, обманчивые звуки. Как можно установить пределы звука? Как может шум удержать очередного Наполеона, очередного императора, который решит вторгнуться с востока или запада? Провал Франкфурта будет преследовать поколения. Оставались только пушки: прусский способ. Ах, прусский способ! Якоб закрыл глаза, и перед его внутренним взором предстала картина такого будущего — и это была грязная кровавая свалка.
Он все плакал, усталый старик в съемной комнате, в городе, на который опускался вечер. Слезы размывали чернила на его ответе Августе. Он взял листок, скомкал и вцепился в него зубами, чтобы остановить рыдания. И медленно, очень медленно, когда к старику уже начал подползать свет уличных фонарей, в комнате установилась столь необходимая тишина.