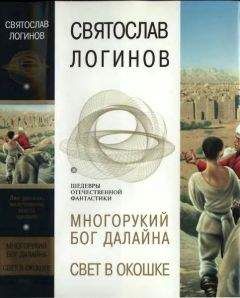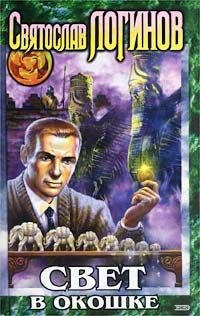Святослав Логинов - Свет в окошке
– Нисколько... – Анюта была искренне удивлена. – Они же маленькие, как с них деньги брать? У каждого воспитанника был свой кошель, но его специальным шнурком обвязывали и пломбу ставили, чтобы никто туда залезть не мог. Пломба от чужих, а от самих детей – шнурок, он какой-то особенный был, не распутать. А то ведь малыши не понимают, они такого могут натворить, если им позволить деньгами распоряжаться. У некоторых денег было много, их часто вспоминают. Но всё равно, пока он не вырастет, никто не знает, что у него в кошельке. Одевают всех одинаково, и кормят одинаково, и учат. Мальчишки, которые постарше, хвастали, что умеют шнурок распутывать и деньги доставать. Хвастались, у кого сколько мнемонов. Даже считалка была: «У тебя один мнемон, у меня один мильон, у кого мнемонов нету, в Отработку выйдет вон».
– Н-да... – протянул Илья Ильич, отмечая про себя мрачный смысл считалки и двусмысленность, которая проскользнула в речи Анюты, когда она произнесла слово «натворить». Ведь скорей всего она так и понимает это слово: что дети, дорвавшись до мнемонов, начнут творить нечто ненужное, а быть может, и вредное. Вот уж действительно бытие определяет сознание.
Они уже никуда не шли, а сидели на бесплатной скамеечке под невидящим взглядом мраморных глаз. Анюта рассказывала, а Илья Ильич слушал, лишь изредка вставляя что-то от себя.
– Там один мальчик был, маленький, ему ещё года не исполнилось, он и ходить толком не умел, так утром нянечка приходит, а его нету – рассыпался. Представляете? Оказывается, его мама ни разу про него даже не вспомнила. Она его придушила и в печке сожгла и с тех пор больше ни разу про него не вспоминала, а другие люди о нём и не знали. Этот мальчик как свой единственный мнемон прожил, так и рассыпался. А другие вырастают – такими богачами становятся! Иногда в гости заходят, подарки дарят. Тогда нянечки и воспитатели премию получают.
– А вообще им кто платит? Воспитателям, учителям, за еду и одежду для детей?
– Бригадники. У них специальный детский фонд есть, из него и оплачивают все расходы.
Илья Ильич потёр нос, скрывая смущение. Живо вспомнилось, как костерил он бригадников за рвачество, как считал всех без исключения мошенниками. А ведь на этих людях тут всё держится. И эта скамейка, даже если поставлена неведомым доброхотом, в порядке поддерживается всё теми же бригадниками.
– А воспитатели многие работали бесплатно, – сообщила Анюта. – Некоторые могли бы в Цитадели жить, а они с нами возятся. У нас попечителем писатель Ушинский, а в соседнем – другой писатель, Януш Корчак простым воспитателем работает, хотя он ещё знаменитее, чем наш. Мать Тереза к нам приходила, подарки дарила всем...
– Надо же!.. – удивился Илья Ильич, который по неграмотности своей в подобных вопросах путал мать Терезу с Дэви Марией Христос и считал авантюристкой, прогремевшей по России в пору её самого печального развала.
– Многих ребят новые родители забирают, – продолжала Анюта, – но это трудно – разрешение получить на усыновление. Потом настоящие родители помрут, они ведь обижаться будут. Кроме того, нужно год ждать, а то некоторые сначала захотят усыновить кого-то, а потом расхотят. Это же дорого... то есть это совсем бесплатно, но нужно предъявить десять тысяч мнемонов, чтобы тебе позволили ребёночка взять. Я вот думаю, если бы у вас там так же люди поступали, небось никто бы детей на помойку не выбрасывал.
– Это точно, – согласился Илья Ильич. – Только тогда бы и детей не рождалось, и мы бы все лет через сто вымерли.
– Меня два раза хотели удочерить, но у одних денег не хватило, а другие через год просто не пришли. Развелись, наверное, или расхотели со мной возиться. А вот я бы взяла малыша из приюта, только у меня мужа нет и десяти тысяч мнемонов тоже. Но я иногда ухожу из Города и гуляю по нихилю. Вдруг, думаю, какая-нибудь мама своего ребёночка выкинет, а я его найду. Я бы его в приют не отдала, пусть думают, что я сама его родила, как в том мире.
– А поверят?
– Не-а... – вздохнула Анюта. – Не поверят. Но пока они узнают, пока за ним придут, у меня всё-таки ребёночек будет. А долго его растить я всё равно не смогу, денег не хватит. Нет, вы не думайте, меня часто вспоминают. Мама, как напьётся, так и начинает ныть: «Ах, доченька, ах, лапусенька!» Всем кругом рассказывает, что у неё дочка была, но умерла младенчиком. Люди же не знают, как я умерла, они её жалеют. От каждого мне лямишка, а от мамы – мнемон. А мама каждую неделю напивается, где только деньги берёт? Я же знаю, на том свете деньги сами не приходят, их зарабатывать нужно.
– На водку почему-то всегда деньги находятся, – вздохнул Илья Ильич. Ему было неимоверно стыдно слушать эту исповедь, словно он, проживший на Земле восемьдесят четыре года, виноват перед девочкой, убитой через полчаса после рождения. Достать бы тварь, которую Анюта называет мамой, не понимая, что в это слово вкладывается иной, великий смысл.
– А ещё дворник меня вспоминает, – продолжала Анюта, – тот, что меня нашёл. Каждый раз, как подходит к мусорным бакам, так и вспоминает. Страшно ему, что снова что-нибудь такое попадётся. Но он меня живой не видел, от него лямишка приходит. И когда пьяный – тоже вспоминает, иногда и другим рассказывает. Я тогда себе праздничный обед устраиваю или на танцы хожу. А что, это обязательно напиваться, чтобы других вспоминать? Я как-то попробовала – противно... и голова потом болела, лямишку пришлось тратить на лечение.
– Необязательно, – сказал Илья Ильич, – просто некоторые иначе не умеют. Душа у них закостенела. От водки она сперва немного отмякает, а потом ещё хуже – вроде как на следующий день голова болит.
– Понятно... – протянула Анюта. – То есть на самом деле ничего не понятно. Вот вы там много прожили, расскажите, как это в том мире жить? Я вроде бы всё знаю, и в школе училась, и рассказывали нам, и фильмы видела, а всё равно чего-то не понимаю.
«Тебе бы, по совести говоря, и сейчас ещё нужно в школе учиться, а не по ресторанам ходить», – чуть было не произнёс Илья Ильич, но вовремя прикусил язык. Что изучать в школе детям загробного царства? Науки естественные для них вроде сказок – не вводить же в программу нихилеведение или отработкологию? Языки понадобятся – их можно за минуту все выучить, сколько на свете есть, было и будет впредь. Вот и остаётся литература, спорт, хорошие манеры и немножко истории. А для этого десять лет за партой сидеть не нужно. И как только человечий детёныш ухитряется распутать хитроумный узел на опечатанной мошне, он отправляется в самостоятельную жизнь, в которой не будет работы, любовь окажется бездетной, да и сама жизнь станет зависеть от поступающих из другого мира мнемонов. Человеку, сполна прожившему ту жизнь, эта кажется сладким десертом, а если иной жизни и не знаешь? «Ах, какое огорченье вместо хлеба есть печенье!» Как рассказать человеку, ничего, кроме печенья, не пробовавшему, о вкусе ржаного хлеба?