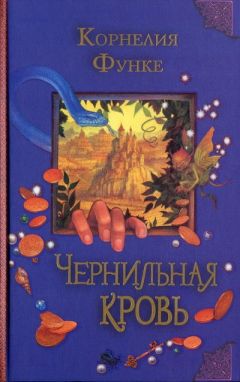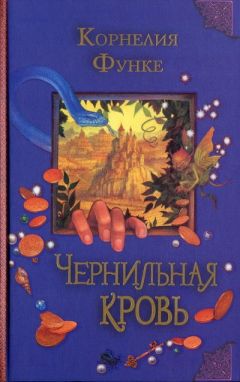Марина Дяченко - Авантюрист
Я поперхнулся, как всегда, в самый неудачный момент. Закашлялся, отстраняясь тем не менее от Танталь, которая хотела хлопнуть меня по спине:
– Я… его… этого… кха… не убивал!
Она вздрогнула. Уставилась на меня с недоверием.
– Да не… убивал же! – повторил я, налившись кровью от кашля и несправедливости. – Не убивал! Все эти свидетели… Поклеп!
– Правда? – спросила Танталь, и голос ее прозвучал почему-то жалобно.
– Клянусь Магом из Магов! – сказал я искренне. И, показалось мне или нет, но моя спутница вздохнула с облегчением.
Мы огибали земли герцога Тристага, и этот вынужденный крюк сулил нам лишнюю неделю пути; по ночам Алане снились кошмары.
Днем я сидел рядом с ней на повозке-санях и рассказывал свои истории, и с каждым днем они давались мне все труднее, тем более что Алана, кажется, совсем не слушала.
В первом же большом селении я спросил лекаря, и мне с готовностью указали на богатый дом на главной улице, напротив дома старосты. Господин лекарь гордился своей ученостью, был румян и важен, и запросил немалую плату, и долго разглядывал бледную руку безучастной Аланы, и, наконец, авторитетным голосом рекомендовал кровопускание. В следующую секунду спесь сбежала с его лица вместе с румянцем, потому что я взял его за шиворот, обозвал шарлатаном и потребовал свои деньги обратно. Кровопускание, сказал я зло, кто угодно может приписать, вот хотя бы и я, и беспомощному в своем ремесле медику оно принесет куда больше пользы, чем любому из его обманутых пациентов!
Кинжал выглянул из ножен и спрятался опять; лекарь молчал, бледнее моли. Алана оставалась вполне безучастной; я разжал пальцы, выпуская кружевной лекарский воротник.
– Медицина бессильна, – сообщил лекарь, пытаясь собрать остатки былой важности. – Ежели вы, господа, такие нервные… так и идите к старухе за околицу. К знахарке то есть. Она погадает… на жабьей лапке… с тем же успехом, но дешевле!
Я сгреб со стола свои монеты, взял под руку Алану и вышел вон.
…«Старуха» не была стара. Сообразно профессии, она жила на отшибе, сообразно званию рядилась в грубое полотно, и тяжелый платок закрывал ее лоб до самых бровей – но возрасту в ней было едва за тридцать, уж от меня-то еще ни одна женщина не сумела скрыть своих лет.
Она долго заглядывала Алане в глаза, бормотала, потом пускала паука бегать по зеркалу, потом порывалась задавать вопросы – но я пресек эти попытки. Знахарка помрачнела, пожелала осмотреть пациентку наедине – я опять-таки не позволил. Не хватало еще оставлять жену с глазу на глаз с подозрительной шептухой, тем более что в успех визита я с самого начала почти не верил и все злее ругал себя за столь неудачную, подсказанную лекарем идею…
В конце концов «старуха» попросила разговора со мной, и я мягко выпроводил Алану во двор, благо ветра не было, и утро стояло погожее.
– Таите, – сказала знахарка с обидой. – Утаиваете… Где была да что с ней стало… А только уходит она. Дале-ченько уже ушла. Как бы потом… догнать успеть бы.
– Че-го? – спросил я с изрядной долей презрения, в то время как внутри у меня сделалось холодно и пусто.
– Зацепите ее, – сказала знахарка шепотом. – Чтобы ей… чтобы удержать. Зацепите, что вам… вы ведь красивый…
Последние слова сказаны были вовсе не со старушечьей интонацией. Знахарка смотрела из-под тяжелого платка, и я вдруг увидел, что глаза у нее голубые и глядят с горечью.
Она вздрогнула от моего взгляда. Поспешно отвернулась:
– Удержите… Да… Ведь вы можете… зацепите. Вроде крючочком…
– Что ты болтаешь, – пробормотал я в замешательстве, – УХОДИТ… куда?!
Она прерывисто вздохнула:
– Сделайте… чтобы ей было хорошо. Пусть… вернется.
– Алана, чего бы ты хотела?
Она ничего бы не хотела. Она смотрела сквозь меня, глаза были пустые и спокойные. Далеченько уже ушла…
– Алана, мы скоро приедем… отец соскучился… и ты, наверное… да?
Она молчала. Ей было все равно.
Тогда, отчаявшись увлечь ее историями, я отыскал в комедиантских сундуках некоторое количество хлама и, сам не зная как, соорудил цветного хвостатого змея. Сказались, видно, какие-то детские опыты…
День был ветреный; змей поднялся высоко. Яркая точка в небе, белесом, как в день моей казни; оказывается, и суд и приговор от Аланы скрыли. Не хотели тревожить – и правильно, наверное, сделали…
Алана подняла голову. Возможно, и ей парящее в облаках чудище напоминало о теплом, домашнем, неомраченном; губы моей жены дрогнули, готовясь сложиться в улыбку – в этот момент бечева лопнула, змей оборвался и, отнесенный ветром, шлепнулся в низину.
– Другой будет, – сказала Танталь.
Лошади еле тащились; я бегом обогнал караван и, вздымая белые тучи снега, сбежал по откосу вниз.
Здесь лежала река, неподвижная, белая, с темным пятном полыньи у противоположного берега. Ветер лениво волочил моего змея по ноздреватому снегу, по волнистому льду. Захлестывала поземка.
Я приостановился. В отдалении скрипели полозья – караван уходил все дальше и дальше; я соскочил на лед, намереваясь ухватить змея за украшенный бантиками хвост.
Не вовремя.
Возможно, здесь брали воду. Или глубокую трещину замело снегом; как бы то ни было, но мерзлая река разинула темный рот – и я провалился по самую макушку.
Перехватило дыхание; не было возможности не то что крикнуть – схватить воздух ртом. Я барахтался в сизой ледяной каше, и ногти мои и края полыньи ломались с одинаковой легкостью. Рета-ано!..
Танталь бежала по склону, слизывая снег темным подолом плаща. Приостановилась; замахала руками, призывая кого-то на помощь, метнулась, не зная, куда бежать – то ли к Бариану за подмогой, то ли ко мне…
Я хотел сказать «не подходи», но горло не слушалось. Танталь почти ползком подобралась к крошащемуся краю полыньи; глаза ее, и без того безумные, вдруг прямо-таки вылезли на лоб.
– Ретано… ты… булавку сними!!
– Что? – выдохнул я.
– Булавку сними! Он до тебя не может… Он тебя спасет! Снимай же!
Сапоги, полные ледяной воды. Вобравшая воду одежда; упрямое течение небольшой реки, все увереннее и увереннее увлекающее меня под лед…
Секунды. Мгновения. А ведь обещали еще весну…
Я знал, что пальцы не послушаются. Я знал, что расстегнуть серебряный замочек на рукаве, пытаясь при этом удержаться на поверхности – заранее обреченное предприятие; протянутая рука Танталь была страшно далеко. Чтобы дотянуться до меня, требовались руки в два раза длиннее.
Длинные… руки…
Булавка щелкнула, размыкаясь, отвечая не столько на мое усилие, сколько на горячее желание – снять; свежемороженое тело уже ничего не чувствовало, но зрение оставалось на диво острым, я видел, как булавка вырывается из ткани, соскальзывает в воду, серебряным мальком уходит на дно…
Длинные руки, невообразимо длинные руки ухватили меня не за запястья, как я ждал, а за щиколотки. И рванули не вверх, к небу – вниз. В глубину. Под лед.
Глава двенадцатая
Руки и ноги в белых ледяных лубках. Река, забинтованная полосами льда. Скованные неподвижные озера – не то лазарет, не то узилище…
Мутный свет с трудом пробивался сквозь толстый слой изморози. Казалось, в окно вставили непрозрачный ломоть льда; я опустил веки, и перед глазами тут же встала изнанка застывшей реки. Неровная поверхность ледяной корки, какие-то зеленые лохмотья, светлый проем удаляющейся полыньи…
Удушье и судороги.
Я рывком сел; вероятно, агонизирующее сознание подсунуло мне предсмертную картину. Не особенно броскую, не больно экзотичную: старая избушка с тяжелым нависающим потолком, заиндевевшее окно, голый пол, деревянный столб, поддерживающий балку…
Я дернулся. Цапнул себя за рукав в поисках серебряной булавки – тщетно. Темное дно, светлая рыбка, стремительно уходящая вниз…
Я тряхнул головой; из правого уха выползла теплая капелька влаги. Точь-в-точь как у ныряльщика, который выбрался на берег и вытряхивает воду из ушей.
Теперь шум в голове сделался не в пример тише. Я провел ладонью по сухому рукаву. Придерживаясь за край лавки, поднялся; снаружи доносился ровный, ритмичный, вселяющий спокойствие звук.
Кто-то стучал топором.
Путь к низкой, вросшей в порог двери занял несколько трудных минут; пошатываясь и борясь с головокружением, я ухватился наконец за железное кольцо, заменяющее ручку, и что есть силы рванул дверь на себя.
Шум в ушах усилился, перед глазами мелькнул призрак полыньи, медленно уплывающей в сторону, закатывающейся, как солнце. Дверь поддалась; в доме было холодно, но в сенях еще холоднее. Хватая ртом морозный воздух, я инстинктивно притворил дверь, не желая выпускать из избушки остатки тепла.
Еще одна тяжелая дверь…
Звук топора на какое-то время смолк – и снова продолжил работу. Тюк… тюк-тюк… тюк…
Скрипуче ступая по снегу, придерживаясь рукой за потемневшую от времени стену, я обогнул дом.