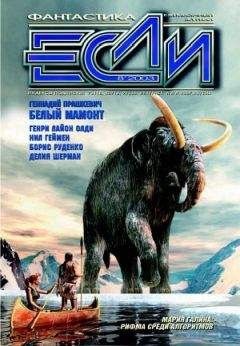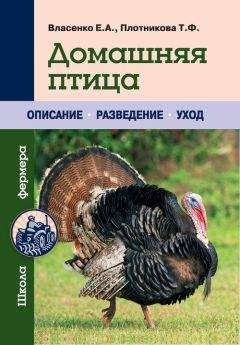Татьяна Мудрая - Люций и Эребус
Они уютно устроились на циновках посреди желтоватых, как ночное солнышко, стен и пили густой суп из чего-то вроде крупно смолотого проса, пряных трав и некоего подобия грибов, налитый в глубокие плошки из неровно обожженной и небрежно глазурованной глины. Слава, как и прежде, восхищался изысканной простотой здешних нравов. «Япония одно к одному», «Ваби, саби и далее по списку» невнятно раздавалось между звучными глотками и стуком деревянной ложки о дно.
— Ты уж прости, — говорил ему Люций, — что нет мяса. Я не могу тебя кормить своими соратниками, а одной с ними пищей — получится и неблагодарно, и негостеприимно.
— Да всё путем, — отмахивался рукой юноша. — Мне мясо не требуется — ни мышиное, ни какое еще. Одной красотой могу прожить сколько-нисколько, а тут, у вас, самое главное ее средоточие. Меры, изящества и гармонии. Вкуса и запаха, цвета и света.
Свет исходил из множества плоских блюдец с фитилями, опущенными в растительное масло, запах — от сухих, необыкновенно ярких цветов розы, лаванды и табака, от самых различных ароматических трав, что оплетали кругом темные, причудливо изогнутые ветви, любовно выскобленные обсидиановым стеклышком.
Люций не спорил: он сам в глубине души понимал это.
— Тогда что же ваш народ говорит, что якут без мяса — не якут? — улыбнулся он.
— Еще мы говорим так: «Якут не умеет жить без железного куяга, душа истого сармата в его карабеле, а у бедного иудея только и есть, что его хуцпа», — ответил Слава. — Знаете это присловье?
— Якут — прирожденный воин, он перенял от монголов легкий и гибкий плетеный доспех с продетыми в ремни бляхами. Польский шляхтич пуще жизни дорожит своей саблей. А что такое хуцпа?
— Это когда тощенький робкий еврей идет через весь зал, чтобы пригласить на танец самую красивую девушку в городе, и не смотрит на то, что вокруг нее стоят сплошные славянские комоды. И в самом деле с ней танцует.
— А бьют его за это?
— Как ни удивительно, почти нет. До танца — и вообще никогда.
Юноша отставил чашку и снова вздохнул.
— Давайте поговорим без обиняков, мессер. Девать вам меня некуда. Тридцать соток дачной земли меня, может быть, и прокормили бы летом, но зимой только и остается, что с вашими сотрудниками мышковать. Так что на выбор: или вы меня опускаете вниз, как мертвую кошку, либо через полгода выставляете то, что останется, на здешнее солнышко, жесткое, как урановая щетка, либо… либо вы от всего меня пьете.
— Чего ты, сволочь этакая, с самого начала и добивался, — ответил Люций самым ровным тоном. — Зачем?
— Животные и растения вашего малого мира постепенно приспособились к здешней нехилой радиации и процветают, — ответил Владислав. — Им это было просто, они солнечники. А вот вас самого она как цепями сковала и постепенно забирает всё больше силы. Так думают Старшие и так вижу я. И сила, и освобождение ваше могут прийти только от смертного человека. Не от подчиненного вам кровопийцы, а от того, кто в проекте равен самому Высокому и Великому.
— Кажется, я дал тебе понять, что не хочу ни свободы, ни царства.
— Ни ответственности за жизнь микрокосма в макрокосме, — четко продолжил юноша. — Я еще не сказал достойных слов о вашем карманном творении. Это поистине живое семя, в котором свернуто пружиной всё бытие.
— Сдается мне, — раздельно сказал Люций, — что мои бывшие лорды тебя крепко обучили.
— Так говорится в Благородном Коране, в суре «Преграды» — медленно произнес Владислав.
«Мы создал вас, потом придали вам форму, потом сказали ангелам: «Поклонитесь Адаму!» — и поклонились они, кроме Иблиса; он не был из поклонившихся.
Он сказал: «Что удержало тебя от того, чтобы поклониться, раз Я приказал тебе?» Он сказал: «Я — лучше его: Ты создал меня из огня, а его создал из глины».
Сказал Он: «Низвергнись отсюда; не годится тебе превозноситься там! Выходи же: ты — среди оказавшихся ничтожными!»
Он сказал: «Дай мне отсрочку до дня, когда они будут воскрешены».
Он сказал: «Ты — среди получивших отсрочку».
Он сказал: «За то, что ты сбил меня, я засяду против них в Твоем Прямом пути,
Потом я приду к ним и спереди, и сзади, и справа, и слева, и Ты не найдешь большинства из них благодарными».
— Это правда? — спросил Владислав, перестав читать наизусть.
— Поэтическая, — угрюмо ответил Люций. — Я не хотел кланяться тому, что еще не выросло.
— Ну, знаете, до выросшего, бывает, еще и тянуться приходится! — рассмеялся Владислав.
— Но меня, собственно, и не наказали. Потому что не один я — все вестники в один голос говорили, что человек, созданный из той же материи, что и всё живое, не сумеет исполнить залога, который так опрометчиво взвалил на себя. Что на одном чистом божественном духе он не удержится и тем более не сумеет отдать его земле, небесам и горам. Просто один я ответил на вызов и спустился вниз, чтобы вложить в бренную глину свой бессмертный телесный огонь.
— Древние говорили, чтобы я сам начал разговор, — ответил Владислав, — а то вы первым нипочем не скажете. Это же не в наказание вам самому началось то содрогание осей и потоп вселенского масштаба?
— Нет. Хотя кто может угадать мысли Творца? Я думаю, что это смертные взвалили на хребет верблюда некую последнюю соломинку. Неважно ни для кого, какую. И не в первый раз, кстати.
— А теперь совсем рядом последний «раз». Даже ученые согласны с тем, что истинное творение пришло в упадок и человечеству остается лишь худо-бедно тормозить на склоне. Растения вырождаются, звери и скоты уязвляются в разуме, люди подвержены вспышкам неконтролируемой ярости и прочим душевным и телесным недугам. А ваши условно бессмертные слуги уже давно работают пугалами для половозрелых детишек.
— Что я могу поделать?
— Изображая из себя благодушного Робинзона — ровным счетом ничего.
— Ты искушаешь искусителя, Пятница.
— Я не назову вас Сатаной-искусителем, потому что вы правы — искуситель здесь я сам. Не назову и Диаболом, разделителем, хотя по своеволию своему вы разделяете оба мира — низкого разума и высокого разума. Я верну вам прежнее имя — Денница, Сын Зари. Люцифер.
Оба встали и выпрямились друг против друга, взявшись за руки: ледяные — у падшего ангела, горячие и трепетные — у человека.
— Ты бросаешь мне вызов, сын Адама.
— Так прими его, бессмертный.
— Ты полагаешь, одной твоей красной жидкости хватит, чтобы меня поднять?
— Не знаю. Только я нарочно встал на перекрестке, в перекрестье. Во главе угла, как закладной камень в фундаменте. Так что, надеюсь, моей крови тебе будет достаточно.