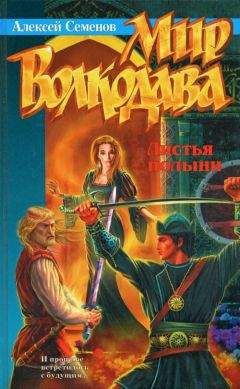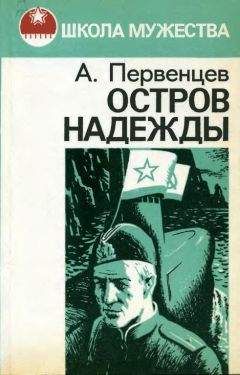Алексей Семенов - Травень-остров
На каждом роздыхе Зорко доставал из короба кожаный с тиснеными буквицами ошейник и раздумывал, можно ли те буквы прочесть, аще вовсе той речи не слыхивать, которую они свидетельствуют. Буквиц много набиралось: целая сотня, четыре десятка и еще четыре. Все ли там буквицы значились, что только были, того он знать не мог. Некоторые и вовсе повторялись, да не раз и не два: значило то, как разумел венн, что на ошейнике не просто буквицы тиснены были, а связная речь. И еще приметил: буквицы меж собой схожи были, будто деревья. У каждой словно бы ствол и ветки. А как деревья человек различает? Если на ветках иглы, если разлаписты — то ель. Так можно было и буквицы сравнивать. У каждой имелся ствол, а к нему, точно ветки, черты и дуги лепились. Иной раз сверху или снизу еще точечки или черты ставились. Выходило, что буквицы, меж собой схожие, и называть надлежало сходно; а еще можно было все буквицы в ряды выстроить, что-бы уяснить, как далеко одна от другой отстоит. Еще получалось, что каждая черта или дуга не наобум ставились, а по порядку, и каждая свою частность отмечала. Далее, правда, Зорко в секреты буквиц не проник: чертить в походе на бересте всякие непонятицы он не хотел. Бересты для письма он захватил, но она ведь и для дела потребоваться могла!
Долго ли, коротко, а через пять дней веннские чащи кончились. Места пошли обжитые, все больше места занимали открытые пространства — пашни и пажити. Здесь жили сольвенны, и Зорко разом почувствовал перемену. Перемена заключалась не столько в природе, хотя суровая таинственность глухомани уступила нарядным покамест по-летнему рощицам и перелескам, сколько в мире людей. У веннов, даже если не были они знакомы меж собой и вообще жили в разных углах своего вековечного леса, всегда можно было без слов распознать, из какого незнакомец рода, по какому делу или без дела вышел он из дому и какое у него сегодня радостное или горестное событие. Обо всем этом повествовали подробности веннской одежи: расцветка, вышивка, узор, украшения. По клеткам поневы, например, можно было узнать, из какого рода женщина. У каждого рода были свои особые поневы на праздник, на работу, на свидание с милым, на свадьбу, на похороны и на все прочие мыслимые дела и случаи, какие могли быть в жизни венна.
У сольвеннов некогда было также, да только как стал забываться родовой быт, так и превратились все эти говорящие мелочи просто в забаву без всякого особого смысла. Привыкшего к такой молчаливой открытости земляков своих, Зорко в краю сольвеннов мигом почувствовал себя ровно в полутьме, зане непонятно было, чего и ждать от встречного человека, а потому разговоров сторонился и, остановившись на погосте, держался как бирюк.
«Видать, оттого и говорят здесь про нас, веннов, — смекал про себя Зорко, — будто мы все молчуны да буки и двух слов связать не можем. А сами-то друг от дружки скрываются, ровно воры: так что ж нам на рожон лезть в чужой верви? А говорить складно они тож не мастаки: вон, этот, с бородищей да в мятеле. С виду сильный человек, из первых в роду — хоть и не поймешь, какого он рода, — а говорит так, что жерлянка на болоте заквакает, и то славнее послушать».
Так раздумывал Зорко, сидя за длинным крепким столом на погосте в седмице пешего ходу до Галирада. Погост стоял посреди обширного лесного острова, последнего по пути в столицу. В этих местах разбойники не то чтобы хозяйничали, но силу имели, потому и были окружены строения крепким тыном на насыпи и рвом семисаженным. А вокруг деревья были выкорчеваны и выжжены еще саженей на полета, так что подобраться незамеченным к приюту большой отряд не мог. Погост — звался он Лесным Углом — жался к не шибко высокой, но крутой горушке, за которой по закатную сторону стояли еще две небольшие деревни: Лоб и Коржава. Дорога входила в полуденные ворота Лесного Угла и выбегала из полуночных. На ночь створки плотно запирались и охранялись.
Охранники — два сегвана из береговых, четверо вельхов и четверо же сольвеннов, вот уж действительно молчуны, — днем отсыпались или отдыхали на дворе, пользуясь последним летним солнышком. Им, видно, жилось здесь сытно и денежно, да скучно. За долгую зиму и весеннюю распутицу, когда на дорогах не сыщешь никого, кроме тощих лис, голодных волков и тех же лиходеев, все мыслимые разговоры были переговорены, и ныне истекали последние дни наемной их службы по уговору с трактирщиком. Вскорости предстояла развеселая обратная дорога в Галирад, так что даже после болтливого торгового лета дюжие молодцы были охочи до свежих новостей: самим разговаривать было лень, да и орудие воина не язык, но меч, а вот других послушать и позубоскалить было занятно.
Дородный мужчина с густой и длинной черной бородой и крупным, чуть одутловатым лицом, по всему, был вовсе не богатым купцом, а даже кем-то из старшин галирадских, боярином. Какие дела привели боярина в Лесной Угол, понять было трудно, не слыша начала беседы. А велась беседа та, должно быть, с самого утра, так что подошедшему к погосту только в полдень Зорко оставалось лишь прислушиваться и стараться вникнуть, о чем речь.
Собеседником боярина был высокий худой сегван, узколицый, с впалыми щеками и длинным носом, с длинными пегими волосами, схваченными налобным ремешком и свободно падавшими на плечи. Одет он был в богатую красную рубаху с золотым шитьем, а пояс носил с серебряными украшениями.
Говорили по-сольвеннски, не забывая о еде и медах. Сегван, должно быть, принадлежал той породе людей, кои, сколько ни съедят и ни выпьют, все останутся тощими да трезвыми. Напоить галирадского боярина тоже было непросто, так что хозяин погоста, сольвенн Твердислав, только успевал подносить знатным постояльцам.
— …А кнес тогда и говорит, что, мол, никакого толку ему в том нет даже вовсе, — ворочая слова как тяжеленные глыбы, басисто рек галирадец. — Так и сказал, что нет, мол, проку. А ваш кунс упрямится, да. Потому, говорит, не след собаке спать, когда на дворе лиса. А кнес наш и осерчал, потому беседовал шибко долго, аж четвертной колокол грянул.
«Не шибко же терпелив кнес галирадский, — помыслил Зорко. — Правда, у кнеса и без того, наверно, забот хватает».
— А особливо за собаку осерчал и молвил, что, значит, псам на дворе место и пусть там себе брешут, а хозяину более ведомо, когда за меч хвататься, а когда за хлыст — псов унять брехливых.
Сегван при этих словах чуть поморщился, но спорить не стал, продолжая выслушивать долгую, с раздумьями речь боярина.
— А кунс ваш спервоначалу красный стал, что свекла, а после белый, как рубаха исподняя, — ничуть не смущаясь возможной обидой, нанесенной собеседнику, продолжал старшина сольвеннский. — И в ответ молвит кнесу, что, коли собак со двора погнать, хозяин и подумать не успеет, хвататься ему за меч или не за меч…