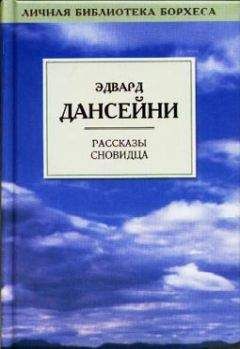Лорд Дансейни - Время и боги: рассказы
Достигнув Аркадии*[1], прибывшие из Лондона путешественники принялись оплакивать смерть Пана.
И вскоре они увидели его — он лежал неподвижно и тихо.
Рогатый Пан лежал, недвижим, роса сверкала на его мехе; в нем не было жизни. И они сказали:
— Действительно, Пан умер.
И, печально стоя над огромным распростертым телом, они долго смотрели на незабвенного Пана.
Настал вечер, на небе появилась звездочка.
Вскоре из деревушки в одной аркадской долине, напевая протяжную песню, пришли аркадские девушки.
И вдруг, увидев в сумерках лежащего старого бога, они остановились и зашептались между собой. «Каким жалким он кажется», — сказали они и тихонько рассмеялись.
Услышав их смех, Пан вскочил, так что камешки полетели из-под копыт.
И путешественники долго стояли и слушали, как скалы и вершины холмов Аркадии оглашались звуками погони.
Сфинкс в Гизе
Перевод В. Кулагиной-Ярцевой
Совсем недавно я стоял перед статуей Сфинкс*.
Лицо ее было накрашено, она хотела пленить Время.
А оно не пощадило ни одного накрашенного лица в мире, кроме ее лица.
Далила* была моложе Сфинкс, но уже обратилась в прах.
Время не любило ничего, только это пустое накрашенное лицо.
Мне было не важно, что она безобразна, не важно, что она накрасилась, важно только то, что она хотела выманить у Времени его тайну.
Время бездельничало у ног Сфинкс, вместо того чтобы разрушать города.
Времени не надоедала ее глупая улыбка.
Кругом стояли храмы, которые Время забыло обратить в руины.
Я видел, как мимо прошел старик, и Время не коснулось его.
Время, которое стерло с лица земли семь врат Фив!*
Сфинкс пыталась связать его путами из вечного песка, она надеялась, что Пирамиды устрашат его.
Время лежало на песке, обмотав свои дурацкие волосы вокруг ее лап.
Если Сфинкс когда-нибудь выведает тайну Времени, нам придется ослепить его, чтобы оно больше не видело прекрасные вещи, созданные людьми — во Флоренции есть красивейшие врата*, и я опасаюсь, что Время унесет их.
Мы пытались связать Время своими песнями и старинными обычаями, но этого хватило ненадолго, оно всегда побеждало нас и смеялось над нами.
Если Время ослепнет, ему придется танцевать для нас и забавлять нас.
Огромное неповоротливое Время станет, спотыкаясь, танцевать, Время, любившее убивать маленьких детей, больше не обидит и маргаритки.
И наши дети станут смеяться над тем, кто уничтожил вавилонских крылатых быков и погубил множество богов и фей, — теперь, когда Время лишится своих часов и дней.
Мы запрем его в пирамиде Хеопса*, в огромном зале, где стоит саркофаг, и станем выпускать оттуда на наши празднества. Оно будет золотить наши нивы и всячески служить нам.
О Сфинкс, если ты предашь нам Время, мы покроем поцелуями твое накрашенное лицо.
И все-таки я боюсь, что Время, корчась в смертных муках, схватит на ощупь землю и луну, а последним рывком уничтожит род человеческий.
Курица
Перевод Г. Шульги
Ласточки, усыпав частокол фермы, тревожно щебетали, болтая друг с другом о разных разностях, но думали они только лишь о лете и о юге, ибо надвигалась осень; они ждали северного ветра.
И настал день, когда они улетели. И целый день все говорили только о ласточках и о юге.
— Пожалуй, на следующий год я тоже полечу на юг, — сказала курица.
Прошел год. Снова прилетели ласточки и, когда лето минуло, снова расселись на изгороди; а весь курятник обсуждал отлет курицы.
И вот однажды утром задул северный ветер. Ласточки взлетели все вдруг, и наполнились ветром их крылья; и пришла к ним сила, и чудесное древнее знание, и вера, что крепче людской. И высокий этот полет унес их далеко от дыма наших городов, от обжитых коньков крыш; и наконец под ними раскинулось огромное неприютное море. Держась седых морских течений, летели они к югу, гонимые ветром; летели сквозь пышные полосы тумана и видели старые острова, поднимавшие над туманом головы; видели медленные блуждания сбившихся с курса кораблей; и ныряльщиков — искателей жемчуга, и земли, охваченные войной. И вот их глазам открылись знакомые очертания вершин — то были горы, к которым они стремились; и они спустились в южную долину, а там было лето — то дремлющее, то поющее песню.
— Кажется, подул тот ветер, какой нужно, — сказала курица, растопырила крылья и, размахивая крыльями, помчалась с птичьего двора, добежала до дороги и по ней добралась до сада.
А вечером вернулась, задыхаясь от волнения и усталости.
И рассказывала всему птичьему двору, как летала на юг до самого шоссе и видела мощный поток машин, и долетела до полей, где растет картофель, и видела жнивье, и жилища людей; а в конце дороги нашла сад: в нем были розы — прекрасные розы! — и сам садовник там был, в подтяжках.
— Чрезвычайно интересно, — восхитился курятник. — А какие замечательные описания!
И кончилась зима, минули самые горькие месяцы; наступила новая весна, и снова прилетели ласточки.
— Мы были на юге, — сказали они, — в долинах за морем.
Но курятник никак не мог согласиться, что на юге есть море.
— Послушайте лучше нашу курицу.
Ветер и туман
Перевод Л.Бурмистровой
Нам сюда, — сказал Северный ветер, обрушиваясь на море по велению старой Зимы.
И увидел безмолвный серый туман, укутавший скалы.
— Нам сюда, — сказал Северный ветер. — О туман-неудачник, я главный у Зимы в ее вечной войне с кораблями. Я внезапно обрушиваю на них свою мощь или сталкиваю с гигантскими плавучими айсбергами. Пока ты проползаешь милю, я пересекаю океан. Когда мне встречаются корабли, на земле стоит плач. Я тащу их прямо на скалы и кормлю ими море. Где бы я ни появился, они покоряются владычице нашей Зиме.
Ничего не ответил туман на его заносчивую похвальбу, лишь медленно поднялся и повлекся прочь от моря, и, расстилаясь по длинным долинам, залег меж горами. Спустилась ночь, все затихло, и тогда в тишине раздалось бормотанье тумана. Я расслышал в этом мерзком бормотании рассказ о его жутких трофеях. «Сто пятьдесят испанских галеонов, торговый караван, что шел из Тира, восемь рыболовецких флотилий и девяносто рыбацких судов, двадцать военных кораблей под парусами, триста восемьдесят семь речных барж, сорок два торговых корабля с грузом специй, тридцать яхт, двадцать один новомодный линкор, девять тысяч адмиралов…», — бормотал он, хихикая; и я спасся бегством от этой страшной заразы.