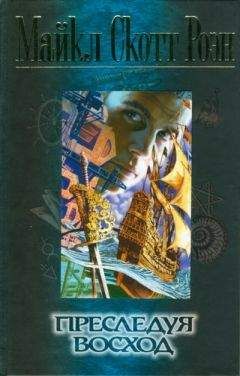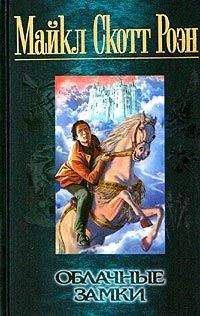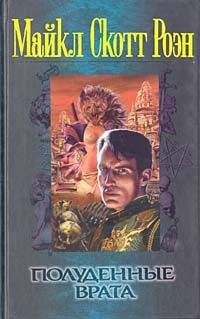Майкл Роэн - В погоне за утром
– Те пьесы – где мальчики играли женские роли. Так не делают уже много… Молл, это были пьесы Шекспира?
– Чьи? А, ШАКСПУРА! – В ее голосе прозвучало удивление. – Стало быть, его по-прежнему играют? Да, кое-какие были. Там была сплошь злость на дворянство, и, на мой вкус, слишком много слов! Вот ваш Миддлтон, ваш мастер Деккер – то были настоящие сочинители пьес… – Она оборвала речь, слегка коснувшись рукой моего плеча. Высоко в небе на фоне темнеющей арки облаков, появилась тень и белая вспышка, силуэт, кругами спускавшийся вниз на узких крыльях, по направлению к неподвижной тени на носовой палубе – это была маленькая чайка. Она приземлилась прямо на поднятую руку Ле Стрижа, все еще трепеща и нервно хлопая крыльями, а он медленно прижал ее к себе и склонился над ней, поглаживая и не обращая никакого внимания на беспокойные протесты птицы. Он взглянул вверх на луну, на высокие паруса корабля Волков, который вдруг стал гораздо ближе. Я был потрясен тем, как быстро мы нагоняли его. Все еще воркуя над своей добычей, Ле Стриж побрел к поручням. Неожиданно он поднял птицу, поблескивавшую в последних лучах, вверх и что-то прокричал – резко, гортанно и свирепо. Каким-то образом я понял, что он собирается делать: я привстал, с моих губ уже был готов сорваться крик. Но Молл резко пригнула меня назад, а старик широко развел руки и разорвал птицу, отделив крыло от тельца.
Моряки издали низкий стон отвращения. Но когда кровь брызнула на палубу, я увидел, как паруса впереди дернулись, словно по ним ударила огромная рука, и беспомощно повисли и захлопали на ветру. А потом лунный свет потускнел и погас, а из тени, опустившейся на верхнюю палубу, я услышал пронзительное кудахтанье – это смеялся Ле Стриж.
И тут же его смех потонул в мощном реве Пирса:
– А ну, заткнись, лопни твои глаза! Мы их догоним с минуты на минуту! ПРИГОТОВИТЬСЯ К АБОРДАЖУ! ЭКИПАЖАМ ПРАВОГО БОРТА – ВЫКАТИТЬ ПУШКИ!
С треском и стоном порты открылись, и снова корабль затрясся от барабанного грохота. У меня над ухом трещали снасти, повизгивал лафет, когда экипаж, напрягая все силы, наводил массивное орудие в темноту, словно чуя далекого врага. Стучали гандшпуги, поднимая тяжелый ствол под нужным углом вертикальной наводкой. Я надеялся, что канониры помнят отданные им приказы. Раздался короткий быстрый щелчок, это встали на место клинья, прицел был взят, а затем наступило молчание, столь внезапное, что оно показалось устрашающим. Я уже отключился от обычных корабельных звуков; все, что я слышал, было мое собственное дыхание. Во рту у меня был отвратительный вкус резины; я бы чего-нибудь выпил – хотя бы того распроклятого бренди. Молчание все тянулось и тянулось, минуты казались часами, и делать было нечего – разве что думать. Меня страшно расстроило это жестокое магическое действо, но еще хуже был преследовавший меня разговор с Молл. Из-за него у меня в голове кипели разные мысли, надежды, страхи и странные тревоги – и истины, которым она заставила меня посмотреть в лицо.
– БРАСОПИТЬ РЕИ! – неожиданно заорал Пирс. – ПОЛОЖИТЬ РУЛЬ К ВЕТРУ! ПЕРЕДНИЕ ПАРУСА! ГРОТ! ПРАВЫЙ БОРТ, ОТСТАВИТЬ! ЛЕВЫЙ БОРТ, ВЫБРАТЬ СНАСТИ! ВЫБИРАЙТЕ, ВЫБИРАЙТЕ, ЧЕРТА ВАМ В ЗАДНИЦУ! ВЫБИРАЙТЕ!
На минуту меня охватила паника, когда наши паруса над головой задрожали, опустились и захлопали на ветру; но потом вокруг медленно заскрипели реи.
– Делаем поворот оверштаг – к ветру и на другой галс! – прошипела Молл. Наши паруса снова наполнились и загудели, и вдруг паруса «Сарацина», все еще бившиеся на ветру, поднялись у нас сбоку, а не впереди. – Для бортового залпа… нашего – или их…
И тут раздалось:
– ОРУДИЯ ПРАВОГО БОРТА – ГОТОВЬСЯ! – ПЛИ!
Я едва успел прижать ладони к ушам и крепко зажмурить глаза. Раздался гром, орудия заговорили, и весь корабль заходил, откликаясь на этот могучий голос. Через закрытые веки проникал танцующий рыжий огонь. Палуба подо мной резко поднялась, и меня вдруг окутало облако черного дыма и колючие искры. Я кашлял и задыхался, в ушах звенело даже под руками, я не слышал следующей команды, но почувствовал грохот, когда откатили назад пушки, и осторожно открыл глаза. Сквозь красные сполохи я увидел, как экипаж моего орудия с грохотом ударил пушкой о лафет. Ствол шипел и изрыгал пар, когда его вытерли, резким движением засунув внутрь и тут же вытащив комок влажных тряпок, намотанных на шест. Затем – очень осторожно – из глубоких кожаных сумок были вынуты мешки с пыльной по виду тканью и засунуты в жерло орудия. Это были пороховые патроны, и одна искра из по-прежнему горячего после выстрела орудия могла вызвать ужасающую катастрофу. Чтобы удерживать заряд, в ствол загнали большие комья грубого волокна и умяли тяжелым щитом на десятифутовом черенке. Только тогда вкатили железное ядро – оно выглядело невероятно маленьким – и, в свою очередь, загнали его в ствол. Это была достаточно простая операция, но она проводилась среди удушающего дыма и раскаленного металла и буквально за одну-две секунды. Экипаж двигался и прыгал вокруг орудия с удивительным изяществом – у каждой пушки повторялись отработанные движения, и палуба, казалось, была охвачена каким-то странным танцем, диким и смертельным.
– ВЫКАТИТЬ ОРУДИЯ! – прозвучала команда Пирса. – ГОТОВЬСЯ! ПЛИ!
И снова оглушительный гром, снова волна, и «Непокорная» накренилась, пламя и обжигающий дым. Корабль, паруса, все исчезло в смрадной туче. Я не видел даже собственных рук. И это – на открытом воздухе, а оружейная палуба, наверно, являла собой какое-то средневековое видение из ада. Меня душила паника и неожиданная отчаянная потребность понять; я вслепую потянулся и схватил теплые руки. Дым отнесло в сторону, и я обнаружил, что вместо Молл держу за руки какого-то дикого ухмыляющегося озорного мальчишку, а на ее почерневшем от пороха лице сверкали зеленые глаза.
– МОЛЛ! – заорал я. – Тебе что, действительно пятьсот лет?
Она закатила глаза, продемонстрировав белки:
– Слава Господня, парень, нашел время спрашивать!
– Я должен был спросить! Ты ведь жертвуешь жизнью – ради меня – ты ведь не так многим рискуешь? Или рискуешь?
Она медленно кивнула головой:
– Да, рискую. Так уж устроен мир.
– Господи, – обмяк я.
Она негромко засмеялась:
– Я ведь говорила тебе, что мера всех вещей меняется? Всего на свете – даже часов и расстояний. Время – это, что поворачивает Великое Колесо, ось – в середине Сердца или в стебле Сердцевины, если хочешь. Люди видят это в различных формах. Но разбей границы, вырвись наружу – и мир становится шире. А с ним и, должно быть, его часы. Что они, как не две стороны одной ткани, разрезанные по одной мерке? Так и твой путь – по одной стороне ткани, но так же и по другой, вперед-назад. Чем дальше твой путь, тем меньше ты сидишь на месте, тем меньше тебя держат часы. А я, я – скиталица. И здесь отпущенный тебе срок измеряется тем, сколько ты отыгрываешь для себя. И, может быть, таков, сколько ты можешь выдержать. Многие зарабатывают долгий срок и живут длинную жизнь, но в конце возвращаются к своим, пойманные в паутину, от которой так и не смогли избавиться. Уходят назад и забывают. Но только не я, я – никогда! – Она хмуро посмотрела на меня. – Что было для меня в этом мире, среди публичных домов и притонов, мошенников и головорезов? Я хотела жить, учиться, находить что-то лучшее – или порождать его!