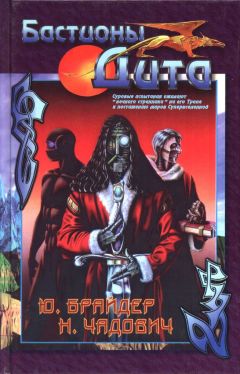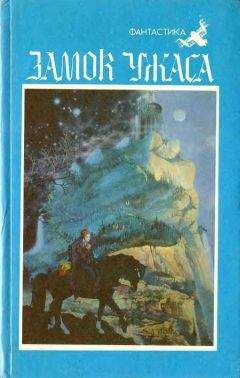Александр Зорич - Карл, герцог
16
Бернар, доверенное лицо старого герцога Филиппа, клевал носом у глазка. Его наблюдательный пункт находился в узкой-преузкой каморке, которая тайно обнимала один из углов комнаты Изабеллы Нормандской. Несмотря на узость каморки, из глазка открывался отличный вид.
Бернар был немолод, очень состоятелен и всеми уважаем. Он согласился наблюдать за Изабеллой только потому, что Филипп очень его упрашивал. «В этой области ты патриарх», – заклинал Бернара Филипп и ничего не оставалось как сдаться. В самом деле, за последние двадцать лет на службе у бургундского двора не появилось ни одного шпиона класса Бернара. Он знал все европейские языки, включая диалекты, виды и подвиды фени, был внимателен, как скрытая камера, вынослив, как нинзя, и, что главное, никогда не приторговывал увиденным вразнос и на сторону. Филипп приходил в детский восторг от добытых Бернаром сведений, находил его толковым советчиком и брал с собой, когда ездил вершить государственные дела. Филипп ценил Бернара и даже пожаловал ему титул. А Бернар, обласканный Филиппом, ценил Филиппа.
– Мне кажется, это очень важно! – Филипп имел в виду наблюдение за Изабеллой.
Бернар скептически пожал плечами. Слово «кажется» он презирал.
– Мой сын, кажется, к ней неровно дышит!
Бернар снова скептически пожал плечами. Ну и что?
– Я должен знать, что между ними происходит! В конечном итоге речь идет об отношениях между Бургундией и Францией! Но, главное, в этом вопросе я доверяю только тебе.
Это был единственный мотив, который показался Бернару достойным уважения. «Людовик был бы польщен, если бы узнал, что к его любовнице приставлен соглядатаем барон», – вздохнул тогда Бернар, которому шел шестьдесят третий год. Возраст брал своё – шея одеревенела от страусиной позы (только так и видно пленницу во всех ракурсах, если сидеть в высоком кресле), и он позволил себе отдых – оторвался от глазка, отодвинул кресло и прислонил затылок к стене. Это было грубым нарушением выкованного им же самим профессионального кодекса. Но после вчерашнего (сон сморил его прямо на посту; первые петухи разбудили его чуть раньше Изабеллы) никакие нарушения его уже не могли расстроить. Проснувшись, Бернар с горечью констатировал, что от былого биоробота, способного бодрствовать неделю и неприхотливого, как вша, осталась только микросхема памяти.
Три последних пенсионных года изнежили его, он стал чувствителен и брезглив. Вчера, например, пришлось открыть потайную форточку, потому что ночной горшок, который прислуга должна была опорожнить только утром, наполнил душную комнату нестерпимым зловонием, в жарких клубах которого продолжать работу было невыносимо. А ведь в былые времена он терпел и не такое!
От всего этого Бернар захандрил. Если бы он мог знать, какую хрестоматийную сцену и какую важную весть он проспал вчера, он, верно, удавился бы, потому что таких провалов он за собой не помнил.
Слух Бернара воспрял первым. Сон улетучился. Шлепки. Не шлепки, но шаги, кто-то бос, кто-то идет. Сердце Бернара едва не выскочило из груди от волнения, как в былые времена, он приготовился записывать. Вдруг дверь распахнулась и в комнату спящей Изабеллы Нормандской вошел граф Шароле. Совсем голый.
17
– Что, он был совсем-совсем наг? – Филипп чуть не плакал.
– Совершенно. Как Адам. Он вошел. Дверь звучно затворилась, и она проснулась тотчас же. Я заметил, она спит очень чутко. Он сказал… – Бернар уронил взгляд на свои ночные записи. – Он сказал: «Вы меня разыграли». Подошел к ней. Она спросила: «О чём это Вы?» Он ответил: «О ребенке».
– О каком ребенке? – Филипп наморщил лоб, что в данном случае означало недоумение. – У неё что, есть ребенок?
– Не знаю.
– Продолжай.
Бернар вновь скосился на шпаргалку.
– Она тоже совершенно голая.
– Нагая, – автоматически поправил Филипп.
– Нагая. Она долго молчит. Улыбается. Спрашивает: «Как Вы догадались?» Он говорит: «Есть такая игра. „Женщины разыгрывают мужчин“. Вы в неё со мной сыграли».
– Что, действительно есть? – вскинулся Филипп.
– Не знаю, – казенным голосом сообщил Бернар. – Далее так. Он говорит: «Так значит, никакого ребенка?» Она смеется. Она говорит: «Конечно нет. Мне нравится, что Вы такой сообразительный». Он говорит: «Мне тоже». Она опять смеется. Он спрашивает: «Так значит, теперь всё хорошо?» Она говорит: «Увы, не совсем». Он спрашивает: «Я Вам не нравлюсь?». Она говорит: «Нравитесь». Он спрашивает «А что?» Она говорит: «Но ведь Людо я тоже разыгрывала!» Он…
– Не части, не части! – в раздражении перебивает Бернара Филипп. – У меня голова идет кругом от твоих «спрашивает-говорит».
Бернар смолкает.
– Людо – это Людовик, – вслух размышляет Филипп. – А что это нам дает? Она разыграла Людовика. Хм-м-м. Что это значит?
– Не знаю.
– Ну хоть какое у него было выражение лица, когда он всё это говорил?
– Он стоял ко мне спиной.
– А у неё?
– Хитрое. У неё было хитрое выражение лица, – пояснил Бернар.
– Ладно, – не впервые Филиппу приходилось признавать своё поражение на поприще прикладной герменевтики. – Что было дальше?
– Они предались блуду и более ничего достойного упоминания не говорили.
– И долго?
– Долго.
Встретив взглядом гнилую улыбку герцога Филиппа, Бернар счел нужным добавить:
– Я не смотрел.
18
Как он написал? Так и написал: «Предлагаю Вам, милостивый государь Людовик, обменять в бытность свою нашего, ныне же Вашего Сен-Поля, на в бытность свою Вашу, ныне же, волею Господа, нашу Изабеллу Нормандскую». В переводе на язык без двусмысленностей, вслух заметил Луи, сие означало: «Ну шо, махнемся блядями?» Карл не из вежливости посмеялся.
Изабелла, о пташка (меццо-сопрано)! – так будет сокрушаться Людовик (тенор) в оперном варианте событий, – томится в жестоком Дижоне, где полюбляют одних лишь парубков и кровопролитие, да и то не всех и не всякое. А она – о беспомощна! Так одинока! В склепе угрюмом застенок! (Звучит тема злодейки-судьбы из первого действия). Она взаперти! В замке заточена она! Злыми засовами засована она! (Пауза) Хорошо ещё, если кормят. Интересно, а вдруг Людовик согласится?
– Посмотрим, – уклончиво ответил Луи и утопил перо в чернильнице. А затем, перечитав ультиматум вновь, подытожил:
– Пожалуй, хватит с него.
Карл выдернул бумагу из-под локтя Луи и пробежал по строкам взглядом технического редактора. Ультиматум был короток, словно бабье лето в Лапландии.
Ровно через сорок восемь часов тот же самый лист, превратившийся в письмо, подпертое снизу кустистой виньеткой, в которой европейские монархи сразу узнавали подпись «Герцог Филипп», письмо, припечатанное Большой Печатью, уже преодолело четверть пути, разделявшего Дижон и Париж. Четверть. Ещё три.