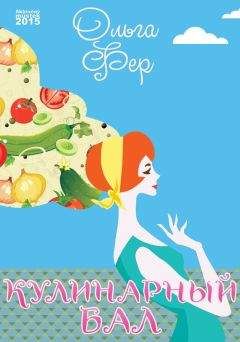Екатерина Казакова - Наследники Скорби
Однако все же и у едва живой целительницы достало сил оторвать себя с насиженного места, добрести до распростертого на земле Гостяя — бледного, хрипло дышащего. Дар лился медленно, с натугой, но скоро бледное сияние охватило разбитую голову старосты, и тот перестал надсадно со свистом втягивать в себя воздух, успокоился и более не метался. Правда, по-прежнему оставался без памяти, но теперь хоть не помрет.
Закончив лечить мужика, Майрико вернулась на насиженное бревно и попыталась собрать в кулак остатки расползающейся воли. Мысли в голове едва ворочались.
Нужно спасти людей. Уцелели только несколько изб. Да и то… как уцелели — не рухнули. Крыши у всех огнем траченные, стены обуглились. Если собрать выживших в одном доме и обнести его чертой, можно дождаться подмоги из сторожевой тройки. Хотя, нет. Не получится. Обережник из тройки приедет, самое быстрое, через двое суток, да и то, если сорока его в городе застанет. А если нет? Если по требам уехал? Не успеет в Лущаны до того, как поднимется навь.
Сколько народу сгорело нынешней ночью? Даже думать о том страшно. А ведь обережный круг, начерченный целительницей, от бесплотных не защитит. Тем паче, что сроков, когда поднимается навь, даже колдуны до сей поры толком не знают. Зимой вставали, чаще всего, на третьи сутки. А летом, бывало, в следующую же ночь. Значит, с наступлением сумерек могут прийти в деревню бестелесные душить и терзать людей, искать себе новые тела. И те, кого Майрико спасала на пределе сил — погибнут.
От горькой безысходности в сердце всколыхнулась злоба. Нет. Не допустит. Для того они столько пережили? Для того она надрывалась, чтобы сгибли все до единого? Идти надо. Оставаться нельзя.
— Найди, во что одеться, — глухо сказала лекарка Дарине, опустившейся рядом с ней. — Застудишься. Дите скинешь. Иди, поищи сухое.
Дарина перевела на обережницу остановившийся взгляд и ужаснулась. Та была серой от усталости. Кожа обрела мертвенный цвет, и мокрые светлые волосы казались теперь крашеной паклей. Коричневое одеяние лишь усиливало болезненный вид.
— Тебе лечь надо… — мягко сказала женщина. — Устала ты. Или… вот!
Она порылась в суме и достала кувшинец.
— На! — раскупорила и поспешно протянула целительнице.
Та отпрянула, словно ей в лицо ткнули ядовитую змею, и покачала головой.
— Нет. Для тебя наговорено, на имя. Мне от него толку не будет. Иди, оденься. Да скажи мужикам, чтобы телегу нашли. Треньку мою пусть впрягают и ребятишек сажают туда, да скарб, какой в пути понадобится, соберут. Много пусть не тащат, а то не дойдем. До полудня выдвинуться надо…
— Куда?
— В Цитадель вас поведу. — Она закрыла глаза. — Собирайтесь.
— Да как же? Может, в деревню какую?
— В какую? У вас тут навь вот-вот поднимется. Если сорока не сгорела — отправь птицу с серой ниткой на лапке. С двумя нитками. Так лучше. А нам уезжать надо.
Дарина опустила глаза:
— Дети у меня… в Вестимцах…
— До Вестимцев навь в ближайшую седмицу не дойдет. Ей сил набраться надо. А вот ежели мы туда потащимся, бестелесные на родную кровь мигом явятся, она их тянуть будет. Сгубим Вестимцы. Да никто и не захочет такую беду на порог пускать. Так что поведу в Цитадель.
— А ежели навь в пути нас настигнет? Ночью?
— Навь к печищу тянется. Она к нему привязана — к месту, где люди жили либо живут. На пустую дорогу не потянется. На пустую дорогу упыри лишь могут выползти. Но от них я вас уберегу. Скажи там Гостяю, пусть собирает народ. И еще… где поворот от большака, на дерево самое приметное повяжите белую холстину, побольше и позаметнее. То знак для путников будет, что поселение разорено и ехать к нему опасно. Главное, не позабудь ничего…
И Майрико вытянулась на обгорелом бревне. Дарина поднялась, с ужасом зажимая рот ладонью. Сердце у нее рвалось к детям в Вестимцы. Душа болела за сельчан, бродивших по пепелищу. Но ум понимал — обережница права. Путь им один — в Цитадель. Да дойдут ли? Заступница их вон без памяти лежит, уж и путаться стала, забыла, что Гостяй с пробитой головой в бреду мечется. Как поведет их?
— Эй! Будивой! — махнула Дарина соседу, стоящему напротив сгоревшего дома. — Созывай, кто в уме! В путь собираться надо. Сороку сыскать, ежели не сгорела, лошадь в телегу запрячь.
Здоровый мужик посмотрел на нее пустым взглядом, но потом сморгнул и кивнул.
…Сорока, слава Хранителям, не сгорела. Птице привязали на лапку две серых нитки и отправили с молитвой в небо. Вестница унеслась, только ее и видели.
С Гостяева подворья, по счастью сгоревшего не до пепелища, взяли крепкую надежную телегу, мяса с ледника, крупы, лука. Прихватили насколько топоров, кожаные полотнища — укрыть телегу на ночь, да оделись во что нашли. С грехом пополам собрались. К телеге привязали чудом уцелевшую козу.
Так и тронулись: заплаканные, усталые, жалкие, пропахшие дымом, одетые кто в рубахи с чужого плеча, а кто и вовсе в куски холстины. Всего их собралось восемнадцать человек. Пятеро баб, трое мужиков да десять ребятишек, ревущих без умолку.
Будивой устроил бесчувственную Майрико в телеге на куске овчины рядом со старостой. Люди смотрели на обережницу с опаской и страхом — не помрет ли в пути? Хотели было ослушаться — отправиться к ближайшей деревне, но не посмели — до ночи туда таким ходом все одно не добраться.
Целительница очнулась к вечеру от злой перебранки:
— Нахлестать ей по щекам! Солнце к закату вон идет!
— Только тронь! Лишь посмей руку вскинуть! Совсем очумел? Она за тебя кровь лила, а ты ее по щекам хлестать вздумал?
— Чего там у вас? — сипло спросила Майрико у Дарины, которая загораживала ее собой от разгорячившегося Будивоя.
— Смеркается уже, — виновато объяснил испуганный мужик. — На ночлег становиться надо. А ты спишь…
Лекарка села, с трудом понимая, чего от нее хотят. Оглядела жалкую кучку людей и вздохнула. Привычно дернула из-за пояса нож, полоснула себя по ладони…
Когда она осенила всех резами, очертила и заперла круг, в тело вновь возвратились мелкая дрожь и озноб. Дарина уложила обережницу поближе к огню, укрыла овчиной, принесла в миске отвара из брусничного листа. Заставила выпить. Майрико покорно глотала, понимая — ей это не поможет. О Клесхе не думалось. И о Дарине, как о сопернице — тоже. Была она обычной для нее. Просто женщиной. Изможденной, напуганной, жалостливой.
Поэтому целительница позволила заботиться о себе. А еще потому, что о ней уже много-много лет никто не заботился. Дарина устроилась с ней под одной шкурой. И, как почувствовала, что занемогшая зябнет — прижалась всем телом, в попытке согреть. Колдунья была ледяная…