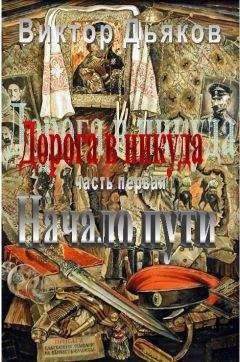Михаил Чулков - Пересмешник, или Славенские сказки
Сие беззаконие и нарушение клятвы казалось мне достойно всякого наказания, однако сим она еще не была довольна. Начал я примечать из ее обхождений, что она меня слишком любит и почитает. В одно время сидела она под окном, на котором я находился; глядела на меня весьма пристально, потом, взяв к себе на колена, целовала мои крылья, подобно как у любовника руки. Наконец, написав письмо на своем языке, положила его пред моими глазами; я, посмотрев оное, показал ей знаками, что его не разумею; и так целовав меня весьма долго, наконец успокоилась.
На другой день Дина, так называлась государыня, принесла пред меня, как думаю, то же письмо на четырех языках, из которых разумел я два, на нашем наречии было оно следующего содержания:
"Я изо всего примечаю, что ты не птица, а очарованный человек. Я, может быть, найду способ возвратить тебе прежний твой образ, а в воздание за то хочу, чтоб ты любил меня и был со мною не разлучен до конца твоей жизни".
Прочитав оное, не мог я пробыть без великого негодования на неверную сию женщину. Забыв весь страх и то, что должно мне было скрываться, попросил мановениями всего того, что принадлежало до письма, чему она весьма обрадовавшись, подала мне все оное, я ей написал в ответ такое:
"Любить тебя, Дина, не буду никогда;
мне счастья больше нет верным быть твоему супругу;
и сей к тебе страсти чувствовать не буду;
не можно истребить мне благодарности к государю".
Взявши оное, ходила она, как думаю, к переводчику, и когда оттуда пришла, то приметил я некоторую досаду на ее лице, которая, однако, скоро миновалась. Это уже был вечер; итак, раздевшись совсем, легла она не постелю и приказала и меня подать к себе. Сколько сил моих было, старался я от нее вырваться, но все старания употреблял напрасно, ибо она весьма крепко держала меня за крылья.
С час времени спустя вошел к нам государь, подкравшись весьма тихо; увидел он, что голова моя лежала на ее грудях. В одну минуту заключили меня в самую ужасную темницу, у которой ни дверей не было, ни окон; препроводив тут целую ночь, плакал я неутешно и просил немилосердых и совсем забывших меня богов, чтобы лишили они меня такой бедственной горестной моей жизни, перестали бы делать меня игралищем развратного несчастия. Но я увидел, что они еще не довольны моим мучением и определяли испытать мне большее гонение судьбины.
Поутру вошел ко мне человек, которой знал наше наречие; он подложил мне бумагу и велел написать что-нибудь нашим языком. Я не знал, на что это было, написал не помню что такое; он вынял из кармана то письмо, которым я отвечал государыне, сличил с этим и говорил, что я достоин за сие самой мучительной казни; его найдена была половина, ибо она, изорвав его, бросила. Сия же половина содержала в себе следующее:
"Любить тебя, Дина,
мне счастья больше нет
и сей к тебе страсти
не можно истребить".
Вскоре потом пришли ко мне вооруженные воины, взяли меня из темницы и понесли на приготовленный нарочно к тому сруб, чтоб на оном сжечь меня и прах развеять по ветру.
Несен я был между множеством народа, которые собрались смотреть сего позорища, как какой-нибудь злодей и преступник; всякий, как я думаю, желал видеть мою погибель скорее, нежели мне оная назначена была. И как увидел я приготовленное для моей казни место, то члены мои ослабели, кровь во мне застыла и в одну минуту лишился употребления моего разума.
Вдруг, не знаю, какое-то непонятное ободрение пронзило мой слух и воскресило меня как будто бы из мертвых: услышал я голос разносчика, который между людьми продавал розы. В сем случае вспомнил я слова превратившей меня в орла красавицы, она кричала мне вслед, когда я с нею простился, нечто о розах; итак, думал, не получу ли от них человеческого вида, и для того начал озираться повсюду, чтоб увидеть того человека. Я его усмотрел, ибо он находился еще впереди, и на таком месте, которого нам миновать было невозможно.
Начал я биться у воина, которой нес меня на руке, чтоб тем ближе подвести его к тому месту, где стоял продавец. Когда же находились мы против оного, то я усмотрел к тому большую способность, схватил несколько листов от тех цветов и проглотил; в самое то время потерял я образ птицы и превратился в человека. Опутины, которые находились на моих ногах, весьма нетрудно мне было перервать, и так сделался свободен.
Вдруг приключилась от того превеликая в народе тревога; всякий смотрел кверху, ибо думали, что я, вырвавшись у воина, поднялся на воздух. Помешательство это весьма долго не утишалось, однако наконец кончилось народным смехом, к превеликой досаде ревнивого государя.
Страх принуждал меня оставить этот город, и я, надев приличное моему состоянию платье, то есть невольническое, вышел немедленно из оного. Весь день находился в путешествии и, не нашед нигде обитания, принужен был препроводить ночь в лесу. Освирепевшая судьба вела меня из беды в беду и из пропасти в пропасть.
В самую глухую полночь наехали вооруженные люди, которые, взяв меня с собою, привезли в город. Тут содержали весьма великолепно, и жил я в преизрядном доме. Все, что ни есть редкое на свете, составляло мою пищу, платье носил я столь богатое, что мне редко и видать такое случалось. Прислужников при мне находилось довольное число, все шло в изрядном порядке, и я думал, что судьба, сжалясь на мое горестное состояние, начинает быть ко мне благосклонна; а не знав языка тех людей, у которых я жил, не мог действительно предузнать моего рока.
В некоторое время предприял я обойти все покои того дому, в котором находился; в одном нашел человека, который, сидя на кровати, весьма горько плакал. Как скоро я на него взглянул, то сердце мое облилось кровью, а глаза наполнились слезами, ибо печаль его не предвещала мне ничего доброго. Подошед к нему, спросил я его:
— Что причиною твоей печали?
— Этот великолепный дом, — отвечал он мне, — или, лучше, отверстый гроб несчастливым людям. Все его довольство и все делаемые нам услуги готовят мучительное окончание жизни. Мы должны чрез три дни принесены быть на жертву здешнего города идолу и покровителю народа. Все чужестранцы заключаются в сем доме и после закалают их на жертвеннике. Два дни останется быть нам на свете и вкушать горькое удовольствие нашего состояния.
Услышав сие, я окаменел, ноги мои подогнулись, и я едва не повалился на землю.
"Что делается со мною, — говорил я сам в себе, — какое неистовое чудо овладело моею жизнею и какая немилосердая эвменида пожрала благополучные дни мои и счастие? Уж не выгнанная ли из ада Мегера управляет моим жребием, и Клотона перестала прясть дни мои из золота и шелку, которые проходили посреди забав и веселий; а ты, немилосердая Аропа, когда уже лишился я всей надежды и упования, для чего не перережешь бедственную нитку моей жизни? Куда ни обращусь и куда ни пойду, везде ожидает меня новое несчастие".


![Михаил Катюричев - Путь Силы [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)