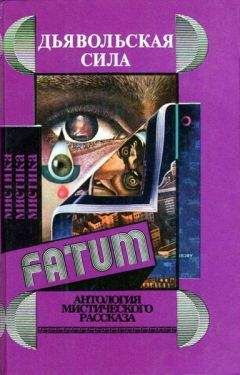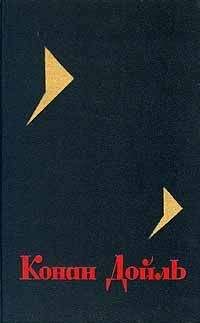Лилия Баимбетова - Перемирие
Как странно, что весь этот день я не думала о Воронах и не прислушивалась к своим ощущениям, но что-то тяжестью лежало у меня на сердце все это время, и теперь я поняла — что. Вот так. Я не была бы тцалем, если бы мое чувство Воронов не было бы обострено до крайней степени, но в этот раз я не поняла и не почувствовала…. Боги! Как это могло быть, я не знаю, но осознание произошедшего не пришло ко мне постепенно, а обрушилось вдруг, и страх охватил меня.
Отстранив Геррети, я сделала один шаг, потом другой…. Оглянувшись, Вороны расступились, открывая дарсая, который сидел на полу, заживая руками живот.
Я опустилась рядом на колени и отняла его ладони от раны. Губы мои задрожали.
Я знала, насколько тяжело его ранение, но одно дело — знать, и совсем другое — видеть. Быть так близко от него — не того, что существовал в моем сознании, но живого, все еще живого. И так близко. Он сидел, привалившись к стене, без кольчуги, без шлема, в одной заношенной грязной рубахе и кожаных штанах. Я держала его руки за запястья, не прикрытые кожаными перчатками, его кожа была еще теплой, но он был уже почти мертв — так мне казалось. Мне было так страшно.
А он вдруг открыл глаза. Рука в окровавленной перчатке взяла меня за подбородок.
— Да выживу я, что ты так пугаешься, — сказал его тихий, хриплый, странно мурлыкающий голос, — Забудь. Делом займись, битва-то не кончилась.
— Рану надо зашить, — пробормотала я.
Старший веклинг положил руку мне на плечо, склоняясь надо мной.
— Я этим займусь. Он прав, атака скоро повториться.
Я стояла на коленях, глядя в запрокинутое белое лицо дарсая. У рта обозначились резкие складки, губы посерели. Я почти физически чувствовала, как жизнь уходит из него. Мне было так страшно. Нет, он… Он был уже настолько стар, что, в сущности, можно было и не бояться за него. Сила его духа была сталь велика, что можно было уже и не бояться за его тело, оно могло вынести все, что угодно. Практически невозможно убить Ворона подобного возраста. Но я чувствовала, что он умирает. Я чувствовала, что он умирает. Закусив губу, я смотрела в его лицо, и внутренняя дрожь охватила меня, когда я подумала, ощутила, что он может умереть — прямо сейчас.
Старший веклинг сжал мое плечо.
— Не беспокойся за него, — негромко сказал он, — Не беспокойся, слышишь?
Я поднялась на ноги и повернулась к нему. В полумраке его лицо казалась бледным.
— Не беспокойся, — очень тихо и мягко повторил веклинг, — Не беспокойся за него, все не так страшно, как выглядит, — сказал он, на миг улыбнувшись мне, — Для него такие ранения не опасны.
Я смотрела на него и молчала. Разумом я понимала, что он прав, но сердце мое болело — по-настоящему, физически болело. Я так боялась, и этот страх неподвластен был разуму.
Раздалось множество детских и женских голосов; с верхних этажей спустились слуги и домочадцы Эресундов. Пришли родители властителя Квеста — под руку, седые встревоженные люди в коричневых одеждах. Спустились младшие сестры Ольсы, светловолосые, тоненькие, в зеленых платьях. Спустилась перепуганная Инга с выводком детей. Геррети, заложив руки за спину, прошелся вдоль коридора, оглядывая вновь прибывших, и вдруг остановился и громко объявил, что необходимо собрать обоз и покинуть крепость.
Наступила тишина, все замолчали, прервались все разговоры, даже дети под влиянием этой тишины сами притихли. Все лица обернулись к нему — к орд-дану, чужаку, не северянину, посмевшему предложить такое. Геррети стоял очень прямо и до странности походил на восклицательный знак. Никогда он еще не выглядел таким чуждым этой обстановке, самим этим стенам, как сейчас. Я поражалась его смелости — ведь он был здесь не первый день и должен был понимать, как будет воспринято это заявление.
Обычно иронично-спокойное выражение его тонкого южного лица казалось особенно вызывающим в этот момент. Возмущение его словами сгустилось в воздухе, как облако дыма. Им всем здесь — слугам и стражам, детям и старикам, всем без исключения — слова начальника стражи казались кощунством.
Единственные, кто остался в живым из правящей семьи крепости, были сестры Ольсы. Они стояли у стены, две тоненькие девочки, совершено одинаковые, в длинных зеленых платьях, с распущенными льняными волосами, с белыми, испуганными лицами. Их глаза блестели в полутьме. Эти девочки, наверняка, давали обеты хранить крепость до последнего вздоха. Сейчас их мир рушился на глазах, но кроме этого — свершалось то, что было страшнее всего. Оставить крепость! А ведь теперь за эту крепость отвечали именно они.
— Необходимо отправить обоз, — продолжал спокойно Геррети, словно не замечая всех этих взглядов, — здесь оставим отряд, который будет прикрывать отход…
Его перебил тоненький дрожащий голос.
— Серая госпожа, — Ольга смотрела на меня большими серыми глазами, — Что нам делать?
Гельда стояла позади своей сестры, прижавшись к стене, и тоже смотрела на меня. Ну, при чем здесь я? Да, когда-то и я тоже произносила древние слова, обязуясь хранить и защищать и умереть на пороге крепости, но не пустить врага в древние стены, но я не помнила тех клятв. И вот я смотрела в глаза одиннадцатилетнему ребенку, который, в отличие от меня, эти слова помнил и который у меня просил совета. В чем? Если следовать традиции, то обе они должны были умереть. Что я могла сказать, что я могла ответить этой девочке? Ты знаешь свою судьбу. Ты знаешь.
— Помогите нам. Я не смогу, — зашептала Гельда, обнимая сестру и опуская голову ей на плечо.
Все молчали и отводили в сторону глаза. Геррети, стоявший неподалеку от девочек, взглянул на меня, словно спрашивая, собираюсь ли я что-то сделать. Но я покачала головой: нет уж, хватит с меня, да они и не маленькие, способны уже сами решать. Никто не шевельнулся, не сделал ни единого движения. Девочки остались в одиночестве у своей стены, маленькие и растерянные. Потом я подумала, как странно, что именно орд-дан сделал что-то в этой ситуации. Странно, что это сделал человек, чужой на Севере и чуждый традициям Птичьей обороны. Но, в сущности, сделал он это не по доброте, а скорее из душевной черствости: ему легко было убить человека, даже человека одиннадцати лет. Оглядев всех и увидев, что никто не пошевелился, Геррети вытащил меч из ножен и шагнул вперед, протягивая девочкам оружие. Инга протестующе вскрикнула, но старуха, мать властителя Квеста, развернувшись, ударила ее по лицу сухоньким кулачком. Инга сразу же замолкла, испуганно схватившись за покрасневшую скулу.
Ольга, не сводя с Геррети огромных серых глаз, отстранилась от сестры и подошла к орд-дану, протягивая вперед руки. Длинные волнистые волосы спускались до пояса, насколько прядей было перекинуто на грудь. Одиннадцать лет — это уже немало, но какой она казалась маленькой, когда шла к орд-дану, протягивавшему ей оружие. В мягких домашних туфлях она ступала почти неслышно. Ольга взялась за лезвие обеими руками, словно не замечая, что режет пальцы об острую сталь, запрокинула голову (волосы ее всколыхнулись) и, вдруг поддавшись вперед, насадилась на острие. Кто-то охнул в толпе. Лицо Геррети было бесконечно спокойно, орд-даны, они всегда такие, кажется, ничто и никогда не может их взволновать. Он выпустил меч из рук. Ольга упала на колени, все еще держась за лезвие, голова ее все больше запрокидывалась назад. Наконец, она повалилась на бок. Гельда, всхлипывая, опустилась рядом на колени и склонилась над сестрой.