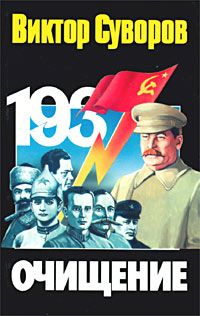Наталья Колпакова - Лучший из миров
– Это хрустальное око всеведения!
Из полированной подставки под шаром немедленно полезли вверх струйки дыма, красиво подсвеченные светодиодами. Мирон, вконец замороченный, вперился в шар, как младенец в погремушку, разве только слюни не пускал. Дым курился, Боруч страстным шепотом бормотал ахинею, согревшаяся под руками сфера словно бы увеличилась, задвигалась, запульсировала изнутри. Как, в какой момент все это случилось, не понял никто. Только в глубине «ока» – много глубже его центра, в страшных бездонных недрах – аморфная возня вдруг сгустилась до густой чернильной фиолетовости, до упругого биения открытого сердца, и скороговорка мага сбилась с ритма, а Мирон почувствовал, что проваливается внутрь, в эту пульсацию, расширяющуюся ему навстречу, словно гигантский зев. Он был совсем рядом, когда Боруч с визгом отскочил от алтаря, тряся руками. Свечение внутри шара испуганно съежилось и погасло, да и сам шар схлопнулся до обычных своих размеров, став тем же, чем и был – электрифицированной стекляшкой.
– Эй, эй… – встревоженно зарокотал над ухом Войко.
Схватил Мирона за плечи, малость встряхнул – тот слабо запротестовал – и грозно развернулся к поскуливающему чудотворцу.
– Ты мне тут что…
– Оставь его, – вмешался Мирон. – Все нормально, он ни при чем.
– Ни при чем, – всхлипнуло эхо.
Черный капюшон отъехал на затылок, являя взглядам потную бледную мордочку мага. Круглые глаза перебегали с одного визитера на другого, и было непонятно, на кого из них двоих бедолага взирает с большим ужасом.
– Я ничего не сделал, – заныл злосчастный «Асмаргор». – Я вообще ничего не делаю. Я психолог. Иной раз и подскажу дурехе истеричной что-нибудь дельное. Только они, дуры такие, по-нормальному не хотят, только так, с магией. Ну а мне что, мне не жалко!
Мирону вдруг стало неловко. Он тронул приятеля за рукав:
– Пойдем, что ли?
– Идите, идите, господа, – закивал Бобру, – очень-очень вас прошу! Я… я болею, плохо себя чувствую. У меня голова болит, вы уж извините…
– Окна открой, проветри, – припечатал Войко. – И смотри, я еще понаведаюсь. Ага?
Заселились уже затемно. Побросали немногочисленные пожитки прямо в прихожей, механически почистили зубы, привычно не замечая убогой нищеты помещения. Дан равнодушно вспомнил свое свежеотделанное, нашпигованное послушной техникой обиталище. Ну вспомнил и вспомнил – воспитание в Ордене приучило его не вникать в «обстоятельства места». А Тейю, похоже, вообще мыслила и чувствовала иначе, и было в этом мире нечто такое, от чего она страдала не в пример больше, чем от раздолбанных съемных малосемеек.
Поведение Дана – на взгляд менее восторженный, чем у доверчивой демоницы, – начало попахивать паранойей. «Лежбища» он менял немногим реже, чем носки, совершенно сдавшись тревожному внутреннему зуду. Смутное беспокойство, гнавшее его неведомо куда, стало невыносимым. Больше он не пытался играть на опережение, хотя, может, и следовало бы. После той памятной попытки ловли на живца, когда он едва не потерял Тейю, здравомыслия в нем поубавилось. Он наконец признался себе, насколько боится за нее. Но не только. С некоторых пор Дан маялся неопределенным ощущением брошенности, покинутости на произвол судьбы. Странное дело, прежде он не чувствовал ничего похожего на помощь свыше, он должен был лишиться ее, этой поддержки из неведомого могущественного источника, чтобы осознать некогда бывшее при нем, а ныне утраченное благословение. И палочка, таинственная подвеска, покрытая словами несуществующего языка, – она будто умерла. Он уже не улавливал в ней подспудной жизни – подозрительной, возможно, даже грозной, но все-таки жизни. Теперь у Дана на груди болталась, цепляясь за майку, бестолковая, слишком большая побрякушка. Он с озлоблением гнал прочь от себя мысль о том, что для учителя это может означать самое худшее… Пораженчество и слабость! Учитель (а кто еще это мог быть?) и так сделал для своего недостойного воспитанника слишком много, столько времени выручая его и Тейю, и если сейчас ему не до чудесного вмешательства в их судьбу, что ж, Дан обязан справиться сам.
Кроме того, он чуял… что-то. Зов не Зов – а так, то ли была эманация, то ли не было… Чаще ночью, изредка днем, но совсем легонько, почти неуловимо. Он даже не пытался отследить источник, безнадежное это дело. Дан пользовался привычным для себя понятием Зова, но если тот шел изнутри, властно приказывая ловчему идти навстречу своей миссии, то это нынешнее нечто доносилось издалека, от кого-то или чего-то внешнего, то есть, строго говоря, как раз и было подлинным зовом. Призывом.
Или не было?
Да, еще ведь оставались соплеменники. Небывало многочисленная команда ловчих в компании мага все еще бродила где-то поблизости, и ни Дан, ни Тейю, никто во всех трех мирах не сумел бы предсказать, когда, в какой злополучный миг ненароком проявленная оборотнем сила поможет им сузить круги.
Как тут не стать параноиком.
Раз в приступе детской растерянности Дан даже кинулся к Сигизмунду. Он большой, сильный, он поможет – вот как это выглядело! Его подспудный страх перед загадочным знакомцем отступил, Дан был готов героически откровенничать и задавать встречные вопросы, требуя на них ответить. К чему он не был готов, подлетая к музейным дверям, так это к препятствию в виде вахтерши.
– Никакого тута архива нету, – изрекла она в ответ на его решительное «я в архив», подозрительно принюхиваясь к Дану.
Новенькая, решил ловчий, хотя бабуся была очень даже старенькая и вид имела такой, будто просидела в закутке у входа лет сорок, не меньше. Пришлось притормозить, пуститься в выяснения, но чем дальше, тем меньше становилось ясности. После долгих препирательств бабуся признала существование при музее какой-никакой «читальни» – и не архива вовсе, а так, небольшого собраньица книг и журналов для внутреннего употребления, – однако ни компьютерами, ни тем паче архивариусом это вечно запертое заведение похвастать не могло. Дан пробовал зайти с другой стороны, назвал имя, но ни Сигизмунда, ни кого похожего, ни вообще какого угодно сотрудника мужского пола собеседница не помнила, да и припомнить не пыталась.
– Какие у нас мужчины-то, бабье одно, – прокомментировала вахтерша в таком унынии, будто устроилась на работу не ради приработка, а с расчетом подловить жениха.
Дан не ожидал, что исчезновение Сигизмунда вкупе со всей историей их знакомства и даже, можно сказать, дружбы окажется таким ударом. Он не понимал толком, зачем ищет непростого архивариуса, на что рассчитывает, но именно после провала в музее чувство заброшенности прочно расположилось в его душе.
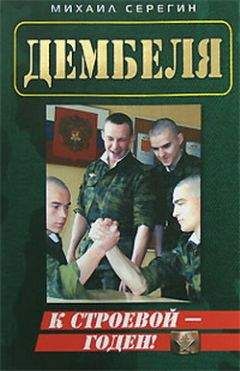

![Сим Никин - Обреченный взвод[СИ]](/uploads/posts/books/55591/55591.jpg)