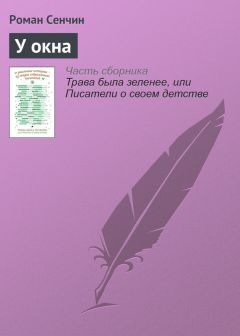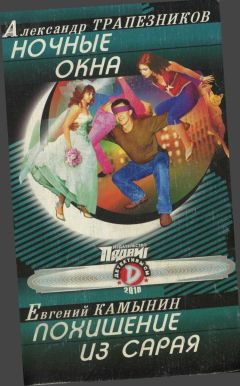Дарья Иволгина - Степная дорога
– Мать, – пробормотал Салих. – Я пригласил одного человека… впрочем, неважно. Он скоро уйдет. Мне с ним надо… посоветоваться. Где у нас холодная вода? И еще фрукты. Мэзарро, кажется, приносил вчера…
– Я подам, – спокойно проговорила Фадарат. – Ступай к своему гостю. Вы в саду?
– Да.
И Салих поскорее вернулся к брату Гервасию. Впрочем, старый Ученик не терял времени на то, чтобы скучать. Он бродил по саду, разглядывая то траву, выросшую возле фонтана, то еле различимую среди пятен старой краски роспись, и о чем-то думал. В тени галереи Салих заметил тень, закутанную в черную шаль, и вздрогнул: это была Алаха.
Ну конечно. Пробралась в сад и подсматривает. А подойти не изволит. И ни за что не покажется, пока не решит, не унизит ли это ее достоинство.
Спесивость маленькой госпожи доставляла Салиху немало хлопот. Так, она отказывалась разговаривать с Мэзарро, доводила до слез Одиерну и только к Фадарат относилась более или менее уважительно – но только потому, что среди ее народа сызмальства воспитывалось почтение к старшим, и побороть давнюю привычку не смогло ничто.
Салих знал: Алаха невероятно одинока в этом доме. Если бы она оказалась сейчас на небе, среди безмолвных звезд, то ее одиночество не стало бы более пронзительным и безнадежным. Собственно, об этом Салих и хотел потолковать со старым, всякое видавшим Учеником Близнецов.
– А, вернулся, – спокойно и обрадованно проговорил брат Гервасий.
– Моя мать сейчас принесет тебе угощение, – сказал Салих, усаживаясь прямо на землю.
Брат Гервасий устроился рядом, ничем не показав, что для его старых костей это не слишком-то удобно.
Вышла Фадарат с большим серебряным блюдом в руке. Виноград – и прозрачный, с фиолетовым отливом, и длинный, как женские пальцы, нежно-зеленый, – и сочные персики лежали горой рядом с кувшином, чье длинное серебряное горло украшено было узором в виде виноградных листьев.
– Мир тебе, добрая госпожа, – вежливо привстав, произнес брат Гервасий. – Благословенны Близнецы в трех мирах! Да остановится на тебе их взор, почтенная.
– И тебе мир, – отозвалась Фадарат, наклоняясь и устанавливая поднос на земле. – Прости за этот скромный прием. Мы недавно переехали в этот дом и не успели еще в нем обустроиться.
– Доброе слово заменит самую лучшую мебель, – улыбнулся брат Гервасий, – а гостеприимство согреет теплее, чем шуба. Впрочем, в такую жару лучше, наверное, не следует говорить о шубах… Лучше вспомнить прохладный водоем или приятный ветерок, поднимаемый опахалом…
– Можно поговорить и о шубах, – засмеялся Салих. У него вдруг стало легко на душе. Видя, как расцвела от ласкового обращения незнакомца мать, как спокойно и доброжелательно держится брат Гервасий, Салих уверился в том, что и с Алахой дело решится наилучшим образом. – Моя госпожа…
– Это та девочка-степнячка? – уточнил брат Гервасий. – Та, которую мы встретили в Вечной Степи, когда возвращались с караваном из Самоцветных Гор?
Не следовало бы ему вспоминать об этом! Надежда на счастье, пугливая, как дикая лесная птица, тотчас исчезла при одном лишь напоминании о Самоцветных Горах. Не может быть никакого счастья тому, кто провел там хотя бы год! Таким, как Салих, остается лишь доживать свой век – сколько там осталось – да благодарить Богов за то, что выбрался. И еще постараться не кричать по ночам от страшных сновидений…
– В степи жарким летом носят иной раз плотную одежду, – пояснил Салих. – Под шубой оказывается прохладнее, чем на открытом воздухе.
– Век живи – век учись, – вздохнул брат Гервасий, притворно сокрушаясь. – А я вот этого не знал, хоть и дожил до седых волос.
Он переглянулся с Фадарат, и оба рассмеялись.
– Мне пора, – сказала мать Салиха. – Прости, добрый господин, но меня ждут дела. Да будет тебе в моем доме тепло, если ты замерз, или прохладно, если тебя одолевает жара.
И она ушла.
– У тебя прекрасная мать, – заметил брат Гервасий и взял с блюда виноград. – Завидую тебе! Моя матушка давно уже умерла, должно быть… О чем ты хотел поговорить со мной?
– Свободу я добыл себе ложью, богатство – кражей, – сказал Салих, – и вот теперь расплачиваюсь. Та, что дороже мне всех земных благ, – она одинока… Она страдает, мне кажется. Она слишком горда, чтобы сказать об этом прямо, но город убивает ее.
– Так пусть возвращается в степи, – сказал брат Гервасий. – Или ты удерживаешь ее по какой-то неизвестной мне причине?
– Если она уйдет, уйду и я, – прямо сказал Салих. – В Степи я нажил себе злых врагов… Пойми! – Он стиснул руки и прижал их к сердцу, словно пытаясь удержать в груди рвущуюся наружу боль. – Двадцать лет я не знал, что такое свой дом, что такое надежная крыша над головой. Что такое – сон, который не будет прерван хриплым криком надсмотрщика. Что такое похлебка, в которой не плавают черви, что такое мясо и фрукты…
– Не продолжай, – вздохнул брат Гервасий. – Ты слишком долго ждал свободы.
– Я хотел только одного: жить в своем доме…
– А теперь тебе придется его оставить, – заключил старый Ученик.
Салих вздрогнул, как от удара. До того, как эти слова были произнесены, он все-таки надеялся услышать какой-нибудь другой совет.
– Другого выхода ты не видишь?
– Не может быть никакого другого выхода, – твердо проговорил брат Гервасий. – Поверь мне, Салих! Если ты потеряешь свою любимую – как ты станешь жить дальше? Для чего тебе дом, если под мирной кровлей не будет мира? Зачем тебе все богатства мира, если душа твоя превратится в нищую бродяжку? Даже самые роскошные одежды не смогут вернуть ей то сверкающее многоцветное одеяние, которым облачает нашу душу любовь, поверь мне!
Салих молчал, боясь проронить хоть слово: дрогнувший голос мог бы выдать его. Он не думал, что старый Ученик Богов-Близнецов умеет читать в чужих душах. Ему казалось – старик, посвятивший свою жизнь служению Богам, мало что знает и помнит о той, другой, жизни – той, что осталась за стенами Дома Близнецов. Жизни, полной страстей, тревог, душевного смятения. Но Салих ошибался. Брат Гервасий – Ляшко Местилич – ничего не забыл. Служа Младшему Брату, одевшись в зеленые одежды милосердия, он так часто встречался с человеческим страданием, что распознавал и болезнь и годное для борьбы против нее лекарство, едва лишь успевал взглянуть на хворающего.
Что касается Салиха, то никаких загадок ни в его душе, ни в его судьбе для брата Гервасия не таилось. Любовь. Самая грозная, самая благодатная из всех болезней. И дороже любви нет на свете ничего – ни свобода, ни покой, ни все земные блага, ни самая жизнь ничего не стоят для того, кто не сберег любви.