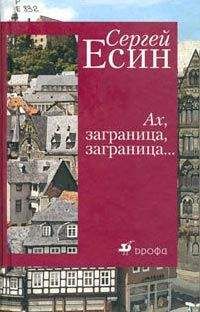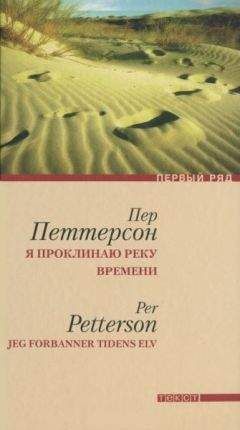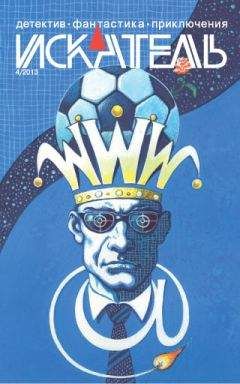Сергей Алексеев - Очаровательная блудница
Он развел костерок, поставил разогревать тушенку и накачал лодку: лучшего способа ночевать без палатки было не придумать — тепло, мягко, и если ночью дождь, перевернул вверх дном, вот тебе и крыша. Солнце село, но вечера как-то по-летнему были долгими, светлыми, а одиночество желанным, поэтому, наскоро перекусив, Стас заварил крепкого чаю, погасил костер, чтоб не обнаруживать себя, опрыскал лицо спреем от гнуса и устроился в лодке с фонариком и бумагами, утаенными Галицыным.
Поблекший от воды текст копий в косом свете читался довольно легко и вроде бы увлекательно, чувствовалось, что жандарм Сорокин имел хорошее образование, каллиграфический почерк, способности к аналитике и еще обладал творческим даром — писал легко, образно и одновременно лаконично. Он доносил своему петербургскому генералу корпуса Муромцеву, что семнадцатого числа августа месяца его филеры задержали на реке Чилим близ устья Карагача странника именем Анкудин, в котомке которого обнаружилось четыре старинных пергаментных свитка и книга на греческом языке, писанные в ветхие времена, поэтому для их перевода и изучения требуется переслать в Академию словесности либо кому-то из бывших насельников Афонского монастыря — никто больше прочесть и оценить отнятые свитки и книгу не в состоянии. Однако сам он, будучи знакомым с кушанским письмом, совершенно определенно может заключить, что эти рукописи к Стовесту отношения не имеют. Сам арестованный Анкудин происхождения их не знает, от кого получил и кому несет, говорить отказывается.
Еще бросилась в глаза несуразица: все составленные Сорокиным документы адресованы питерскому начальнику, но до адресата не дошли, ибо не имеют виз, и обнаружены почему-то в Омском архиве.
Когда вчера разлепляли бумаги, все листы перепутали, и продолжение приходилось отыскивать по нумерации страниц или по смыслу, и это занимало много времени. И вот, перебирая копии, Рассохин сначала потерял к ним интерес, ловя себя на мысли, что все время прислушивается к окружающему пространству и отвлекается на всякий громкий всплеск воды или звуки, доносящиеся из поймы. Стас понимал, что они никак не связаны с человеком, что это бьют хвостами бобры возле берегов, плещется на мелководье нерестящаяся рыба, но с сумерками все сильнее ощущал, как подступает неясная тревога, какое-то неудобство и ожидание чего-то неприятного. Он не чувствовал опасности или угрозы на этом островке: открытый со всех сторон водный простор исключал возможность кому-либо подобраться незамеченным, но все равно выключал фонарик и слушал, как бурлит прижим внизу и несомые стремниной топляки глухо стукаются о деревянный берег.
И вдруг подумал, что причина этой настороженности — нервы, и что уже никогда не будет, как тридцать лет назад, когда после пешего маршрута он за три минуты ставил палатку и уже на четвертой засыпал, невзирая ни на шорохи, ни на треск среди деревьев — явный признак бродящего неподалеку зверя. Рассохин налил из фляжки немного водки, выпил без закуски и закурил трубку: надо пересилить себя, успокоиться и позвонить Лизе.
Он набрал питерский номер и сразу же услышал ее голос — ждала.
— Ничего не узнал о маме? — с надеждой и сразу же спросила она.
Рассохин поведал, как они с Гохманом ездили на Мотофлот, где оказалась совсем другая Евгения Семенова.
— Ты уверен, что другая? — усомнилась Лиза. — Может, не узнал? Столько времени прошло…
— Я тебя помню!
— Точно помнишь?
— Она совсем не похожа на Афродиту. Хотя в Усть-Карагач тоже попала студенткой.
— Я должна сама ее увидеть! И поговорить.
— Там нечего смотреть — старая толстая тетка. Да и призналась бы, если написала письмо. Нет, это не она!
— Жаль, а то бы я могла поехать уже сейчас… А ты где?
— На необитаемом острове, — сказал то, о чем подумал. — С мыслями Робинзона…
За двое суток, проведенных вместе, Лиза не позволяла себе ни единого вольного, с безобидным намеком слова; напротив, была все время в напряжении, возможно, вызванном воспоминаниями и мыслями о матери, говорила сдержанно и только единожды расслабилась, когда рассказывала историю о зимующей ласточке.
И совсем иначе общалась по телефону.
— Хочу сейчас быть твоим Пятницей, — многообещающе проговорила Лиза. — Сидеть у костра и гладить твою ершистую голову. Когда ты меня позовешь?
Он почему-то опасался этой ее смелости и неких намеков.
Темный предмет на белесой воде он принял сначала за топляк, который часто проносило по реке, но приглядевшись, заметил в его очертании что-то напоминающее человека на плоту.
— Уже скоро, — пообещал он, не желая рассказывать всего, что творится на Карагаче.
— Если не возьмешь в экспедицию, — пригрозила она шутливо, — сама приеду, с Дворецким. Михаил Михайлович приглашал!
— Куда приглашал?
— В путешествие по старообрядческим скитам!
Рассохин попросил Лизу присматривать за профессором. После их первой встречи ученый проникся журналисткой, которая вела с ним соглашательскую политику, поддакивала, обещала написать о всех оригинальных версиях Дворецкого и теперь время от времени наведывалась к нему в университет. Она опасалась, что обман раскроется, или придется и впрямь что-то писать, чего фотокорреспондентка глянца делать не умела. И еще хуже, если профессор узнает, с чьей подачи и с какой целью его опекают… Но кажется, интриган затеял свою игру и намеревался использовать журналистку, чтобы добиться признания. Он настойчиво подталкивал Лизу, чтобы она как представитель прессы, но человек сторонний помогла ему сформировать общественное мнение в Академии наук. Мол, никто не заподозрит сговора, а я в долгу не останусь…
— Он что, собирается на Карагач? — спросил Рассохин.
— Выдал предписание губернатору — реакции нет. Так что поедет сам, на разборки.
— И этот на разборки!
— А кто еще?
— Да это я так… — Теперь он отчетливо видел человека, плывущего в резиновой лодке. — Ну ладно, до завтра!
— Что такое? У тебя что-то случилось?
— Нет, все в порядке!
— Тогда поговори еще со мной? — капризно попросила Лиза.
— Побережем аккумулятор. Здесь, на острове, электричества нет.
Он отключил телефон и вынул из рюкзака бинокль: вдоль затопленного пойменного берега несло одноместную резиновую лодку, причем человек сидел лицом вперед и не греб, а лишь подправлял движение. Такое плавание, да еще в половодье и сумерках, было не просто рискованным — безрассудным: пропороть резинку можно о любую корягу, кругом ледяная вода, в которой продержишься десять минут, не больше.