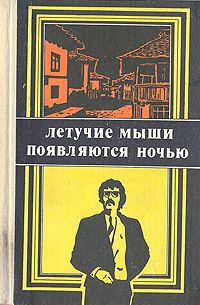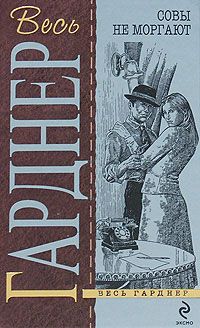Столпник и летучие мыши (СИ) - Скво Алина
Хоровичка магическими жестами восточной танцовщицы как бы вытягивала из детских гортаней тонкие, прозрачные, небесной красоты звуки. Все замерли, опоённые волшебством. Неосязаемая воздушная благодать лилась через уши внутрь, властно и весомо вытесняя всю до капли скверну.
Регентша без устали вращала руками: то растягивала перепонки, то изгибала сомкнутые пальцы. Она раскачивалась, как маятник, вперёд-назад, шевеля мускулами лопаток. И если бы не её змеиные телодвижения, то могло бы показаться, что реальный мир закончил своё существование, и все присутствующие, наполненные по самую макушку божественным бальзамом, уже улетели в рай.
Пение закончилось, и воцарилась абсолютная тишина. Никому не хотелось спускаться на землю, в реальность подземелья. Только через минуту, когда хористы удалились, протопав гуськом на задний план, и уселись у скатерти, раздались ликующие вопли и аплодисменты.
Концерт продолжился. По очереди выходили местные поэты и чтецы. Один мальчик долго декламировал «Слово о полку Игореве», и никто не смел его прервать. Танцоры в русских национальных костюмах лихо отплясывали камаринскую, гусляры наяривали от души. Скрипач играл каприсы Паганини, трагично раскачиваясь берёзой на ветру. Самодеятельный молодёжный театр показал сценку из школьной жизни. Детский хор выступал ещё несколько раз. Снова и снова родители умывались слезами умиления. В заключение концерта Светозар воззвал к обществу взволнованным срывающимся голосом:
— Друзья, товарищи, мои верные подданные! Многие годы мы с вами верой и правдой служили Всевышнему. Что есть мочи мы боролись со змеиной кровью в наших телах, отмаливая грехи дедов и прадедов. Иешуа приходил к ним дважды. Ушами они слышали божье учение, глазами видели чудеса, но, как были жестоковыйными, так и остались. Мы же — те, кто никогда не видел ни чудесных исцелений, ни воскрешений, ни умножения хлебов, остаёмся верны и Сыну, и Отцу, и Духу Святому. Веками мы сохраняли русскую культуру, правдиво преподавали потомкам историю нашей горячо любимой Родины. Мы верили, что звезда новой жизни воссияет, и гнёт подземелья падёт. Милостивый Бог услышал наши молитвы! Воздадим славу Отцу Небесному за спасение, которое Он послал нам в лице светоносного воина!
В этом месте государь зарыдал, как дитя, облапив матовыми перепонками лицо. Нервы властителя сдали, — сегодняшний день всех потряс. Народ отстранился от пиршества и, пав на колени, принялся истово молиться. Прозвучало «аминь», руки взлетели в едином крестообразном жесте, лбы прильнули к площадному камню. Столпник поднялся, запылал очами.
— Братья и сестры! Да возвернётся род людской к первородной силе и впредь не будет погнушаем! Клянусь биться с гадом до победного конца!
Тут началось нечто невообразимое. Народ вскочил и, сметая хвостами стаканы и тарелки, кинулся к спасителю. Не стесняясь наготы, граждане горячо прижимали благодетеля к холодным шершавым животам, тискали и обцеловывали. Потом подняли его на руки и принялись качать, подбрасывая высоко вверх, точно мяч. Они так разошлись, что пришлось спасителя от их нечеловеческой силушки отбивать. Государь прикрикнул на русичей, и те отхлынули. Столпник, помахивая на прощание рукой и расправляя примятую грудную клетку, удалился почивать в сопровождении Фру. Лили испарилась.
***
Бессонные рыбы резвились, выпрыгивая из воды; их тихий плеск убаюкивал. Но донные прожекторы нещадно лупили по глазам. «Ишь, как разошлись. Горят не хуже солнца. Нет у них, видать, ни дня, ни ночи», — сладко зевнул Семён, растянувшись у воды, и приладил над глазами козырёк-ладонь. И в ту же секунду яркий свет улёгся, остались только тонкие фитильки ночников. Озеро и берег погрузились в полумрак. Молодец нисколько этому не удивился, только вспомнил, что лежать придётся на голом камне: нечего и под голову положить. Он даже не успел пожалеть о рюкзаке, забытом на пиру, как вдруг обнаружил под собой пуховую перину, а сверху — лебяжье покрывало.
По внутренним часам Семён определил девять часов вечера: день прошёл, надвигался сон. Фру лежала рядом, утопая в перине, свернувшись бубликом и положив под голову ладошки, как в детстве. Синеватая бритость почернела: волосы за пяток дней отросли и перестали колоться. Семён прильнул животом к острому позвоночнику, обнял щуплые плечики, прижался губами к тёплому родничку. «Спи, любушка, набирайся сил. Чай, умаялась, бедняжка. Ишь, как отощала-то. Ну, это ничего: были б кости, а мясо нарастёт. Не сегодня-завтра аспида вместе с приплодом я изничтожу. А тады сыграем свадебку и заживём в ладу и любови. Домик справим у подножия горы, обонпол* речки, поблизу Разумихина. Вот бы поглядеть, что там нынче деется?..»
И только он об этом помыслил, сразу же увидел свою деревушку — всю, как есть. Она лежала в руинах. Лишь обгорелые печные трубы торчали над землёй, подобно перстам пророков. Вороний грай и собачий вой оглашали пепелище. Село сгорело подчистую. В округе никого. Вдруг Семён заметил слабое шевеление. Маленький пятачок обугленной земли приподнялся. На поверхность вылезли двое вурдалаков. Приглядевшись, парень узнал в чумазых лохмачах деревенских мужиков. Стараясь не греметь, они осторожно прижимали к себе вёдра, как если бы несли в руках новорожденных младенцев. Крестьяне бесшумно и с оглядкой ринулись в сторону разгромленного журавля*. Столпник запечалился.
Он моргнул, и декорации сменились. В змеином логове, позвякивая цепью, медленно слонялась от стены к стене бледная, как тень, Марфа. То ли от голода, то ли от страха девичье лицо было обескровлено, синюшные губы дрожали, а ясные глазоньки стали чернее омута. Дочь пасечника покосилась на яичную кладку, перекрестилась и тихо заплакала. В нишах на перекладинах висели какие-то пугала с оскаленными черепами. Вид их поразил Семёна в самое сердце. Он пригляделся, догадался, что это украденные змеем девы, и почувствовал в себе силу оживить их одним прикосновением руки. От болезненного чувства жалости Столпник застонал и крепче прижал любимую к сердцу.
Он увидел, что Марфа перестала плакать. Она изо всех сил упёрлась руками в камень, намертво придавивший не только собачью цепь, но и всю её христианскую душу. Пыхтя и рыча, она то тянула привязь, упершись ногами в ямку на валуне; то пыталась раскачать громадину тонкими ручонками; то толкала её плечом. Махина не сдвинулась и на вершок*. Не удержавшись на ногах, бедняжка шлёпнулась, как лягушонок, поднялась, не отряхивая замызганного сарафана, и плюнула на ещё не вылупленных змеевичей. На всех сразу. Это Столпника развеселило. Он тихонько хохотнул и закрыл глаза…
…и увидел себя подле алтаря в белой шёлковой рубахе, счастливым до бесконечности. С ним плечо к плечу Фру, — взволнованно-бледная, но сказочно красивая в раззолочённом багряном сарафане, с венчальным венком на голове, ясноокая, чернобровая, нежная, как утренняя роза, пульсирующая, как звезда, распахнутая перед счастьем длиною в жизнь. Порфирий в серебристом стихаре строго читает псалом. А сам нет-нет, да и взглянет на невесту, да и улыбнётся в бородёнку. Уж так хороша девица, что глаз не отвести.
В монастырскую церковку всё прибывают прихожане. Уж набилось их — не продохнуть. Всем охота посмотреть, какую красавицу жену отхватил себе непутёвый Симеон Неправедный. Чернецы украдкой выглядывают из-за спин, смотрят, как брат надевает обручальное кольцо на дрожащий девичий пальчик. Новгородцев смотрит во все глаза на суженую и видит, как вспыхивает она алою зарёю. Неожиданно церковные витражи темнеют, мерцает паникадило. Огни свечей вздрагивают, трепещут и вдруг гаснут. Ох, не добрый знак. Незнамо откуда врывается ветер. Аналой складывается, точно крылья у подстреленной птицы, и обрушивается на пол.
Гости озираются. Проносится ропот. Церковь быстро наполняется могильной тьмой. Удушливый страх сдавливает тисками каждую душу живую. Народ бросается к выходу, теснится, кричит. Порфирий размахивает крестом, точно боевым мечом. И вдруг! Стена разверзается. Через алтарь врывается быстрая, как молния, мощная, как таран, с когтями острыми, как серпы, убийственная лапа дракона. Она хватает невесту и…