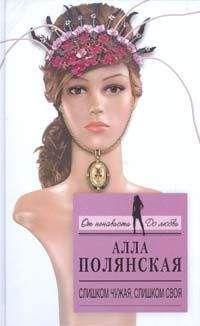Юлия Остапенко - Легенда о Людовике
— Видишь лес? Это Арлинго, тот самый волшебный лес, где сир Арнаут де Марейль встретил свою возлюбленную в облике лани, соколицы и осины.
— Тот самый? — недоверчиво нахмурилась Алиенора, однако с окна все же слезла, ибо лес тянулся от кареты по левую руку, и, чтобы поглядеть на него, она должна была отвернуться от свежескошенных полей Понтиньи и от блестящей поверхности Ионны, гнавшей свои воды вдоль дороги, по которой кортеж двигался к Сансу.
Едва юбки Алиеноры коснулись пола, баронесса де Мартильяк издала вздох бесконечного облегчения, в котором слышался страдальческий стон, и, промакнув платком левый глаз, посмотрела на Маргариту с признательностью. Та улыбнулась в ответ, незаметно оправляя сбившуюся накидку сестры, прильнувшей уже к другому окну. В такие мгновения ей казалось, что разница между ними — не два года, а все двадцать. Что поделаешь, оставшись после смерти матери старшей женщиной в роду графов Прованских, Маргарита была обречена быть троим младшим дочерям графа не столько сестрой, сколько нянькой и наставницей. Особенно для Алиеноры, с которой с недавних пор не стало совсем никакого сладу — она никого не слушала, кроме Маргариты.
«Как же она будет без меня?» — подумала Маргарита в Бог знает который раз и беззвучно вздохнула.
— Марго, а это точно тот самый лес? Такой густой и темный и некрасивый совсем, фу!
С тех пор как они покинули Прованс, Алиеноре было все интересно и ничего не нравилось. Она редко покидала фамильный замок (в поездках она становилась совсем несносной, и потому ее чаще других оставляли дома), а за пределы Прованса не выезжала и вовсе ни разу за свои тринадцать лет — так же, как и Маргарита за свои пятнадцать. От далекого, неведомого, загадочного Иль-де-Франса Алиенора ждала сама не зная чего, но непременно чего-то такого, что потом можно будет воспеть в сирвенте. Она была совершенно помешана на сирвентах, канцонах и Марии де Вентадорн, и в последний год Маргарите пришлось выслушать не менее трех дюжин стихов и поэм, сочиненных ее сестрицей. Были они столь наивны и неумелы, как только могут быть наивны и неумелы стихи тринадцатилетней девочки, а посвящались в основном журчащим ручьям Прованса, сочным травам Прованса, заливистым птицам Прованса и яркому солнцу Прованса; словом — Провансу. Алиенора была влюблена в Прованс, это был ее рыцарь, ее прекрасный кавалер, ее избранник. «Я никогда не выйду замуж, — заявила она как-то Маргарите. — Никогда, никогда не расстанусь с моим милым домом, и папа меня не заставит! Ах, Марго, ну как ты можешь отсюда уехать!»
Это было месяцев шесть назад, сразу после того, как граф Раймунд подписал брачный договор с посланниками короля Людовика Французского, сосватав за него свою старшую дочь.
Хотела ли Маргарита этого брака? Смешно было и спрашивать об этом. Людовик Французский — один из сильнейших монархов Европы, о лучшей партии для своей любимой дочери граф Раймунд и мечтать не смел. А что до Прованса… да, Маргарита любила Прованс, хотя нынче он был уж не тот, каким его воспели в своих балладах прославленные трубадуры. После крестового похода, затеянного святой матерью Церковью против альбигойской ереси, слишком много душистых прежде полей стояли выжженными и пахли пожарищем, слишком много гордых прежде городов, отбыв епитимью, стояли под замком, слишком осторожными и иносказательными стали песни, воспевавшие прежде свободный воздух Прованса. Алиенора грезила о тех временах, и в этих грезах шла ее юность. Старшая сестра ее всегда отличалась куда большей практичностью. Она не строила воздушных замков, в которые не ступишь — нога провалится в облако; и она не влюблялась в землю, которую с самого рождения ей назначено было покинуть.
Но все же, глядя в окно кареты на проплывавший мимо пейзаж, Маргарита не могла не согласиться, пусть и помимо воли, с досадой Алиеноры. Казалось, не так уж много они проехали лиг — а все здесь казалось другим, не таким, как дома. Леса были гуще, поля — меньше, дороги — люднее, но хуже — местами так и вовсе попадались непроездные топи, которые приходилось огибать по широкой дуге. Городки и деревеньки встречались чаще, чем на раздольных прованских землях, но были они меньше и грязнее, и люди тут тоже были неопрятные, неумытые и глядели все время в землю, мрачно сминая колпаки черными от земли руками. Казалось, тут даже небо другое — сизое, размытое плотными сероватыми облаками, сквозь которые лишь изредка проглядывало солнце — и тогда речная вода блестела почти так же ярко, как в Провансе, трава зеленела почти так же радостно, как в Провансе, и майский день становился почти так же светел и чист, как в Провансе, — но только почти.
— Да сядьте же вы, мадмуазель, — капризно сказала мадам де Мартильяк, и Алиенора, явно разочарованная увиденным, надула губки и уселась рядом с Маргаритой, скорчив рожицу и пнув сестру ножкой под юбкой.
— Скажи ей, чтобы она так на меня не глядела, — потребовала Алиенора, дерзко отвечая на возмущенный взгляд баронессы. — Ну скажи, Марго! Она тебя послушается, ты ведь королева Франции!
— Еще нет.
— Ах, ну какая в самом деле разница — еще, уже! Ты ею станешь через несколько дней, а я стану сестрой королевы Франции, и вы, — она обвиняюще ткнула пальчиком в колено баронессы, — не посмеете потом так на меня глядеть и за юбки меня хватать, будто я маленькая!
— Это я тебя хватала, — ответила Маргарита.
— Правда? Фу, злая! — заявила Алиенора и обиженно умолкла, давая Маргарите минутку передохнуть и собраться с мыслями. Это никак толком не удавалось ей все те дни, что они провели в пути. Каждый раз непременно что-нибудь отвлекало.
А подумать ей было о чем, хотя, по правде, не было особого проку в тех раздумьях — и оттого они становились все более тяжкими. Маргарита думала о том, что ей предстоит, — о венчании, свадебном пире, а затем и коронации — без того волнения и томительного предвкушения, которое было, казалось, непременным атрибутом перемен в ее судьбе. Она сама не знала, отчего так, — может быть, оттого, что она попросту до сих пор не могла поверить, что едет по тряской дороге в раскачивающейся карете со скрипучими спицами, а не ступает босой ногой на зыбкий пол воздушного замка. Это чувство — нереальности, невозможности происходящего — не покидало ее все шесть месяцев от помолвки и до того дня, когда кортеж пустился в путь, дабы доставить королю Франции его невесту.
Как и большинство девиц ее положения, Маргарита своего нареченного вовсе не знала. Она его видела лишь однажды — десять лет назад, когда он еще не был королем и даже престолонаследником, а всего лишь вторым из королевских сыновей. Старший брат его Филипп был еще жив, а Людовик Смелый, отец нынешнего монарха, — в здравии и прекрасном самочувствии гнобил альбигойцев в соседней Тулузе. Сама Маргарита, достигшая тогда пяти лет от роду, была глубоко, трепетно и, как ей казалось, навечно влюблена в замкового пастушка Жака — светловолосого, белозубого, красивого до такой степени, что у Маргариты дух замирал всякий раз, когда она видел его, гонящего отцовских лошадей на луг. Она и поныне помнила, как свистела и пела хворостина в его руке — ффьють, ффьють! — когда он охаживал ею бока разленившихся на летнем зное коней. Краше трелей любой флейты и арфы был ей тот свист. Теперь Жак был счастливо женат на прачке Агнессе, и было у них уже трое детишек, таких же крепеньких и светловолосых. А Маргарита ехала в Иль-де-Франс, чтобы рожать детей мужчине, который мальчиком гостил в замке ее отца и которого она совсем, ну совсем не помнила.