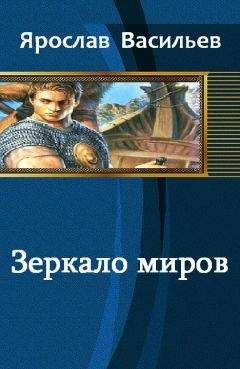Мервин Пик - Горменгаст
Сколь ни запачкались и ни истерлись кирпичи, поверхность двора по-прежнему веяла жизнью, как будто душа человека, который давным-давно распорядился, чтобы их уложили так-то и так-то, еще жила в ней. Кирпичи дышали. Пересечь двор означало — прогуляться по замыслу.
Столбы галереи окрасили: идея отвратительная, поскольку ничто лучше сизовато-серого камня их не сочеталось со светло-желтой кирпичной кладкой, из которой они, казалось, и вырастали. Тем не менее, их окрасили в густейший цвет, самый гнетущий из красных.
Правда, назавтра целая армия мальчишек начнет отскребать краску, но все же сокрытие нежно-серого камня представлялось вдвойне возмутительным в тот единственный в году день, когда двору выпадала высокая честь обратиться в сцену, на которой читает Поэт.
Установленная перед красными столбами Трибуна Поэта рдела и темнела — но лишь для того, чтобы снова вспыхнуть под полуденным солнцем. Древесная ветвь скользила по лику солнца, и заполненный скамейками двор, казалось, пошатывался, когда мерцающие тени листвы проносились по нему вперед, назад, вслед за колеблемой ветром ветвью.
Собравшиеся торжественно восседали на скамьях, поглядывая назад, на калитку, из которой мог с минуты на минуту появиться Поэт. Прошел уже год, как никто из присутствующих не видел этого высокого, нескладного человека, да и видели-то они его на этой же самой церемонии, которая в прошлый раз совершалась под разреженной, скудной моросью.
Графиня сидела перед первым рядом скамей. Слева от нее стояло кресло Фуксии. За креслом торчал Баркентин, по лицу которого лил пот раздраженного беспокойства; старик не сводил глаз (как, впрочем, и Графиня с Фуксией) не с калитки Поэта, но с дверцы в южной стене, через которую вот уже двадцать минут тому надлежало вбежать во двор Титусу.
За ними длинным рядом — словно желтые скамьи их были насестом черных индеек, — восседали профессора. Кличбор, возвышавшийся в зодиакальной мантии посередине ряда, также смотрел на дверцу в стене. Вот он вытащил большой, неопрятный носовой платок и утер им чело. В тот же миг дверь распахнулась, и трое мальчишек подлетели, задыхаясь, к Баркентину.
— Ну? — просипел старик. — Ну? Нашли его?
— Нет, сударь! — задыхаясь, отвечали мальчишки. — Нигде не можем найти, сударь!
Баркентин, гневясь, треснул концом костыля по светлым кирпичам. Рядом с ним тут же возник Стирпайк — словно вырос из сочно светящейся земли. Он склонился перед Графиней, и та же тень волной окатила неровный рельеф заполняющих двор десятков голов. Графиня на поклон не ответила. Стирпайк распрямился.
— Я не смог отыскать ни единого следа семьдесят седьмого графа, — сказал он Баркентину.
— Черномазая кровь! — продрался сквозь стиснутые зубы голос старика. — Это в четвертый раз…
— Какое… такое… это? — Три эти слова Графиня выложила так, словно они были сделаны из свинца. Слова тяжко попадали в полуденный воздух.
Баркентин, обмотав должностными лохмотьями хилое тело, в гневе повернулся к Графине, взиравшей на него ледяными глазами. Причмокивая, старик поклонился.
— Госпожа моя, — сказал он, — уже в четвертый за шесть месяцев раз семьдесят седьмой граф отсутствует на священной…
— Клянусь тончайшим волосом с его головы, — перебила Графиня тоном, полным убийственной неторопливости, — даже если он будет отсутствовать по сто раз в час, я не позволю говорить о его поведении на людях. Я не позволю вам разглагольствовать о его промахах. Держите ваши соображения при себе. Мой сын — не раб, коего вы, Баркентин, вправе обсуждать с вашим бледным подручным. Подите прочь. Торжество продолжается. Найдите для мальчика замену на скамьях новичков. Свободны.
Тут в толпе за ними послышался ропот — то вошел в Калитку Поэт, предваряемый медленно вышагивающим человеком в шкуре лошади и с ее же хвостом, влачившимся за ним по кирпичам. Поэт — в мантии, с кубком ровяной воды в левой руке и манускриптом в правой, широким неловким шагом следовал за фигурой в лошадиной шкуре. Лицо его походило на клин. Безрассудство мерцало в мелких глазах. Он бледнел от смущения и недобрых предчувствий.
Стирпайк отыскал мальчика примерно Титусова возраста и роста и объяснил тому его роль, довольно простую. Мальчику надлежало стоять, когда остальные сидят, и сидеть, когда все стоят, — вот и все, о чем следовало помнить семьдесят седьмому, по полномочию, графу.
Когда Графиня положила в кубок камушек из реки Горменгаст, когда зрители снова уселись и никого, кроме Поэта и заместителя Титуса, на ногах не осталось, полная тишь пала на двор, и Поэт, сжимая в руке поэму и воздев лицо, возвысил глухой свой голос…
— Ее светлости, Гертруде, Графине Гроанской, и детям ее, Титусу, семьдесят седьмому властителю просторов, и Фуксии, единственному сосуду Крови с женской стороны: всем присутствующим дамам и господам и всем наследственным служителям; всем, исполняющим многоразличные обязанности, тем, соблюдение догматов коими служит оправданием их присутствия на сей церемонии, посвящаю я поэму, которая, по предписанью закона, должна быть обращена ко всем присутствующим здесь, как бы ни рознились они в отношении восприимчивости, занимаемого положения и прозорливости ума, ибо поэзия есть ритуал души, голос веры, суть Горменгаста, луна во всей красноте ее, трубление Гроанов.
Поэт примолк, чтобы глотнуть воздуху. Слова, только что им сообщенные, неизменно произносились перед самой поэмой, и теперь ему оставалось только открыть дверцу проволочной клетки и выпустить наружу сороку — символ, значение которого давно уж утратилось в архивах.
Сорока, каковой полагалось ввинтиться в солнечное небо и лететь, пока она не обратится в точку, ничего такого делать не стала. Скакнув из клетки и с миг простояв на краю трибуны, она, громко треща крыльями, подлетела к Графине, на плече коей и просидела до конца церемонии, время от времени поклевывая свои черные крылья.
Поэт, подняв манускрипт к глазам, сделал глубокий, сотрясший его вздох, открыл маленький ротик, отступил назад и, потеряв равновесие, только что не сверзился по ступенькам, крутенько уходившим с узкой трибуны на семь футов вниз, к земле. Визгливый смех, донесшийся со скамей новичков, пронзил теплый день, как игла пронзает подушку.
Юного нарушителя увел особый служитель. Вновь наступила дремотная тишь, затопившая, как некая жидкость, испещренный тенями двор.
Поэт, чью кожу кололи иглы стыда, взошел на трибуну. Он снова поднял, приступая к чтению, манускрипт, и пока он читал, во дворе удлинялись тени. Вверху моталась, подобно мигрени, туча скворцов. Мальчишки на скамьях новичков, передразнивавшие поэта и пихавшиеся локтями, один за другим засыпали. Графиня зевнула. Летний день расплавился в вечер. Стирпайк бегал глазами туда-сюда. Баркентин раздраженно почмокивал.
Голос Поэта гудел, гудел. Явилась звезда. За нею другая. Земля плыла по Вселенной. Графиня снова зевнула и в который раз взглянула на западную дверь.
Где же Титус?
Глава двадцать пятая
С самого рассвета лощина купалась во мраке. На заре полоска почти горизонтального света проскользнула сквозь массу деревьев в смутный угол ее, где выгибало спины стадо гигантских папоротников (их длинные ветви висли, как лошадиные гривы). Они отливали холодным, зеленым, сердитым блеском. Их стоило выставить напоказ. Но длинный луч удалился, словно не найдя того, что искал.
Пока поднималось солнце, лощина, казалось, темнела вместо того, чтобы копить набирающий силу свет. Своды листвы возносились над нею, один объемистый слой над другим обвисал темнеющими пеленами.
Весь день здесь покоилась, окутывая стволы, тьма, страшная дневная тьма, непроницаемая, как ночь.
И при том самые верхние ветви деревьев, верхние слои листвы блистали под безоблачным солнечным небом.
Когда наступал вечер и солнце повисало над западным горизонтом, затопленная мраком лощина начинала светлеть. Пологие лучи изливались с запада; прогалина встряхивалась и затем, безмолвная и неподвижная, точно собственное живописное изображение, раскрывала все свои тайны.
Среди деревьев, растущих в этой округлой низине, было одно, требовавшее немедленного внимания. Обхват его был таков, что прочие деревья, обступившие это, хоть тоже высокие, мощные, выглядели побегами. То был царь. И только один он был мертв.
Однако сама эта мертвенность наполняла его жизнью. Жизнью, не нуждавшейся в апрельских соках. Глыба ствола его походила на башню, возведенную посреди увитой зеленью беседки, и когда свет с запада ударял в нее, глыба светилась, жестко и гладко, как мрамор или слоновая кость, ибо цветом походила на бивень.
Дерево вырастало из устланной сепиевым дерном смутной котловины. Золото пестрило эту больную, гниющую почву там, куда падали прямые лучи, и светлые ромбы удлинялись, покамест садилось солнце.