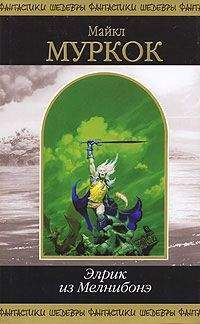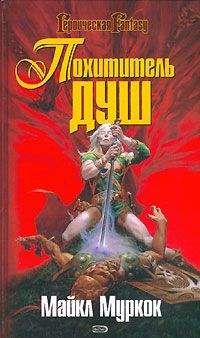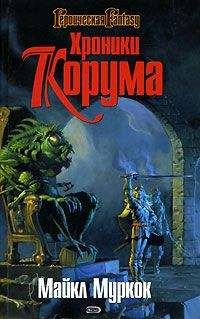Майкл Муркок - Месть Розы
Серо-зеленые глаза лоцмана застыли на шевелящемся шлеме. Это были глаза, почти не ведавшие страха.
– Верно, – сказал Гейнор, – такая сделка была заключена… – Он, казалось, помедлил, словно взвешивая последствия нарушения слова, потом решил, что ему выгоднее соблюсти договор. – И я, конечно же, буду придерживаться ее условий.
Он спускается с палубы вниз и скоро возвращается с небольшим свертком – возможно, это свернутый плащ – и передает его лоцману. На мгновение в этих странных глазах появляется блеск, губы искривляются в усмешке, а потом выражение лица седого снова становится безразличным. Взяв сверток, он возвращается к ящеру, чтобы перекинуться с ним еще несколькими словами. Потом он командует: «Впередсмотрящий, на мачту!», и «Гребцы, на весла!», и «Поставить парус! Ветер слабый, но попробовать стоит». Лоцман снует по палубе черного с желтым корабля, это настоящий морской волк, человек, который набил себе немало шишек, приобретая жизненный опыт, человек недюжинного ума – именно таким и должен быть капитан корабля. Он всех воодушевляет, поддерживает, он кричит, свистит, шутит, даже с огромным старым ящером, который выбрался из клетки, открытой Чарион, и переполз понемногу на нос, где лег рядом со скрипящим бушпритом. А корабль двигается вперед, он идет узким каналом, где белая вода встречается с черной, где воздушная пена встречает свинцовые капли, висящие в вязком воздухе. Нос корабля – узкий и острый как бритва, на манер бакрасимов Вилмирского полуострова, – врезается в инертную массу, а ящер отдает команды, переводимые лоцманом для рулевого; так входят они в Тяжелое море, в темноту, где само небо кажется чем-то вроде шкуры, от которой отражаются все звуки, эти звуки возвращаются приглушенными и напоминают голоса смертных, подвергаемых мучениям, и все эти бесчисленные голоса проникают в терзаемые уши экипажа и пассажиров, которые не могут слышать ничего другого. Они уже готовы просить принца Гейнора, который сам встал теперь у руля, развернуть корабль, иначе они все погибнут от этого шума.
Но Гейнор Проклятый не стал бы их слушать. Его жуткий шлем возвышается над стихиями, его закованное в латы тело бросает вызов мультивселенной, оно не покоряется ни естественному, ни сверхъестественному – ничему, что могло бы угрожать ему. Ведь он не боится смерти.
Ящер ворчит и машет лапами, лоцман подает знаки руками, и Гейнор слегка поворачивает штурвал то в одну, то в другую сторону – работа тонкая, как за ткацким станком. Элрик стоит, зажав уши руками, ему хочется заткнуть их чем-нибудь, чтобы избавиться от этой боли, которая вот-вот разорвет его мозг. На палубу призраком выходит Уэлдрейк…
…И звук прекращается. Над кораблем воцаряется тишина.
– И у вас то же самое, – с некоторым облегчением говорит Уэлдрейк. – Я думал, это действует вино, которое я вчера выпил. Или, возможно, поэзия…
Он с тревогой вглядывается в медленно двигающуюся черноту вокруг них, поднимает голову к серому небу, с которого по-прежнему лениво падает дождь, и, не сказав ни слова, на короткое время снова возвращается в свою каюту.
Корабль продолжает двигаться, Тяжелое море продолжает дыбиться, и по этому жидкому лабиринту пробирается порождение Хаоса. Ящер ворчит свои приказы, выкрикивает слова команды лоцман, а Гейнор чуть поворачивает штурвал на юг. Ящер взволнованно машет перепончатой лапой, штурвал еще поворачивается, и все глубже в неспешное море плывут Гейнор и его команда. На всех лицах, кроме Элрика и его друга, какое-то безумное, темное ликование, они вдыхают запах моря, которое пахнет страхом. Они вдыхают страх, как гончие вдыхают запах крови. Они вдыхают этот вязкий воздух, они вдыхают запах опасности и смерти, они пробуют ветер, как пробуют воздух. А ящер с ворчанием отдает команды, и его рот влажен от голода, он дышит тяжело, брюшным дыханием, он предчувствует близкую кормежку.
– Хозяин, я должен поесть!
Странные воды, как ртуть, накатываются на палубы корабля, который продвигается вперед и, кажется, вот-вот будет поглощен клейкими волнами. Наконец корабль останавливается вообще. Ящер берет буксир, привязанный к носу, сползает за борт впереди судна и, упираясь своими широкими лапами в воду, начинает тащить корабль за собой. От лап ящера в тяжелой воде остаются следы, но через мгновение они пропадают, и корабль потихоньку движется, преодолевая сопротивление воды. Наконец ящер проваливается и начинает плыть, он испускает довольное урчание, когда капли воды перекатываются по его чешуйкам. Он издает звуки – звуки наслаждения, звуки, отдающиеся где-то наверху отдаленным эхом, которое наводит на мысль, что все это происходит в огромной пещере, а может быть, и в еще каком-нибудь более органическом проявлении Хаоса. Наконец рокочущая песня ящера замолкает, и существо забирается на корабль, садится на носу в прежнем положении рядом с бушпритом, а лоцман снова забирается на мачту, и Гейнор опять становится у штурвала.
Элрик, зачарованный этими событиями, смотрит, как капли падают со сверкающего тела ящера и скатываются назад в море. Наверху в роящейся темноте внезапно вспыхивают сполохи алого и темно-синего цветов, словно это солнце, которое вдруг обожгло их, не похоже на то, что они знали прежде. Даже воздух делается таким густым, что им приходится глотать его, как рыбам, вытащенным из воды. Один из членов команды падает в обморок на палубу, но Гейнор не снимает руку в боевой рукавице со штурвала и не делает ни малейшего движения головой, из которого следовало бы, что они должны остановиться. Да и никто его больше не просит остановиться. Элрик понимает, что они словно бы единомышленники, которые уже перенесли столько, что уже не страшатся боли, которая может ждать их впереди. В отличие от Гейнора, эти люди не ищут смерти с такой, как он, непримиримостью. Это люди, которые убили бы себя, если бы не верили, что жизнь чуточку интереснее смерти. Элрик узнал в них свои собственные чувства – жуткую, невыносимую скуку со всеми прочими качествами людской породы, включая корысть и глупость. Но в нем вдобавок ко всему этому было и особенное чувство – воспоминание о его народе до основания Мелнибонэ, когда они не были такими жестокими и уживались с существующими реалиями, а не пытались навязать миру их собственные; было в нем и воспоминание о справедливости и совершенстве. Он подошел к фальшборту и посмотрел на неторопливые воды Тяжелого моря, спрашивая себя: где же в этой ленивой черноте могут находиться три сестры? И при них ли все еще тот ларец розового дерева? И находится ли все еще в ней душа его отца?
Появился Уэлдрейк с Чарион Пфатт, он напевал ей какие-то стихи, ритм которых почти гипнотизировал своей простотой, потом вдруг покраснел и замолк.