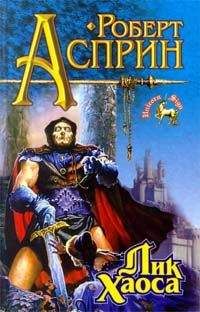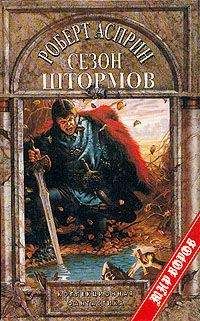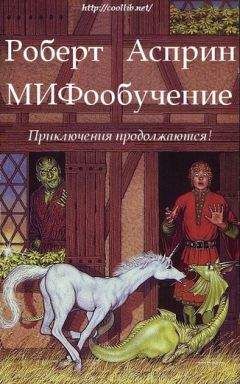Роберт Асприн - Кровные узы
— Чего-нибудь выпить, Темпус Тейлз?
Убрав меч в ножны, он пошел рядом с ней, легко поддерживая ее под руку; когда она поднялась на ступени, дверь распахнулась от усилия воли, яркий свет залил заросший сорняком двор.
— Садись, — сказал он, когда они вошли в дом. Голос его был сама сдержанная вежливость; Темпус налил вина ей, затем себе.
— Я должен извиниться перед тобой, — сказал он, словно слова были бесценны сами по себе. И дальше:
— У тебя волосы в грязи.
Она со смехом выдохнула, затем задышала глубже, сильнее и обнаружила, что проснулась. Смех был не из приятных, как не было приятным и выражение лица Темпуса.
— У тебя подбородок в грязи, — сказала она, и он вытер его такой же заляпанной грязью рукой.
От обоих несло запахами улицы. Внезапно Темпус усмехнулся по-волчьи.
— Я бы сказала, — заметила Ишад, — что нам обоим повезло.
Он осушил свой бокал. Она наполнила его снова.
— Бывает так, что ты напиваешься? — прямо спросил он.
— Добиться этого трудно. А ты?
— Нет, — сказал он.
Другой тон. Теперь в нем не было надменности. И гордыни. Он посмотрел ей прямо в глаза, и стало ясно, что в эту ночь, в это мгновение произошло не обычное сближение мужчины и женщины. Лишь что-то напоминающее это. Ишад ощутила, что произошло одно из тех редких мгновений, когда Темпус Тейлз приблизился к тому, чтобы стать мужчиной. А она — к тому, чтобы стать женщиной. Возможно, впервые.
Она вспомнила встречу в переулке, Темпуса верхом на коне, его пытающееся что-то доказать поведение.
Но, потерпев поражение, обворованный и оскорбленный, он стал чувствительным. Он готов был злоупотребить этим, и вновь Ишад ощутила это зыбкое равновесие, полярную противоположность тому направлению, куда звала Темпуса черная ярость. Улыбнувшись, он выпил вина; навечно неразрешимое противоречие.
Можно было бы ожидать, что человек, живущий бурной жизнью, становится сложным. Или безумным, по крайней мере для тех ограниченных, кто лишен воображения Проклятием Темпуса стала его кипучая энергия: в исцелении своих ран, сексе, бессмертии.
Ее же проклятие — разрушение. И сочетание их проклятий невозможно.
Она рассмеялась и, облокотившись на стол, вытерла рот тыльной стороной перепачканной грязью руки.
— Что тебя позабавило?
В ее словах сквозило подозрение.
— Немногое. Очень немногое. Твой конь и мои розы. Мы, — и когда в пределах слышимости по мостовой гулко загрохотали копыта, — отомстим шлюхе?
Темпус услышал топот приближающегося коня. Он оправился, решила она, и снова стал чужаком. Направился к двери.
Неплохо.
Она вышла минуту-другую спустя, когда конь уже грохотал копытами вблизи, с плащом, несколько месяцев провалявшимся под ногами. Он был из бархата, грязный — ведь конь, пробежавший из конца в конец весь Санктуарий, должен был вспотеть.
— Сюда, — сказала она, присоединяясь к Темпусу у открытой калитки — Держи.
Конь вращал глазами, высунув язык, распространяя запах кррфа, пока Темпус возился с подпругой. Стащив съехавшее набок седло, он вырвал из рук Ишад плащ и накинул его на треса.
— Проклятье, — повторял Темпус снова и снова
— Позволь мне.
Она придвинулась, несмотря на то что оба ей мешали, спокойно протянув руку, коснулась склоненной головы животного; это потребовало некоторого напряжения. У нее застучало в висках, ей пришлось потратить больше сил, чем она предполагала. Но конь успокоился, и дыхание Темпуса стало более размеренным.
— Ну же
Темпус тер и скоблил, водил коня по кругу на небольшом пятачке ровной земли. Не произнося ни слова.
— С ним все в порядке, — сказала она.
Ему было известно ее колдовство, способное исцелять, — и другое, причиняющее боль, но сегодня оно было не столь действенным. Он уже видел ее работу прежде.
Темпус посмотрел в ее сторону. Ишад не требовала благодарности, не ждала ее. От этого проклятого коня во рту у нее появилась какая-то горечь. В их личной неудовлетворенности она видела иронию.
Она стояла, сложив руки и закутавшись в плащ, пока Темпус осторожно, без единого слова, накинул ему на спину пропитанную потом попону, затем седло. Трес, опустив голову, потерся щекой о переднюю ногу, словно пристыженный.
Покончив с подпругой, Темпус подобрал поводья, еще раз взглянул в сторону Ишад и вскочил на коня.
И умчался без единого слова.
Подавив вздох, она плотнее закуталась в плащ, несмотря на влажное тепло ночи. Стук копыт по булыжнику замер вдали.
Сосредоточенность исчезла вместе со скукой. Восток заалел. Закрыв за собой калитку, она прошла по дорожке и отворила дверь, не расплетая рук и опустив голову.
Видение улетучилось, как и скука, с того момента, как они встретились в переулке. А после свидания на развалинах Ишад постоянно кололо какое-то предупреждение об опасности, не имевшее ничего общего с людской злостью. Оно имело некоторое отношение к тому, что было совершено у этого дома в центре города, к тому несчастью, затронувшему ее и, возможно, Темпуса.
С той поры, как нисийские Сферы Могущества перестали влиять на город, стали происходить удивительные вещи. Колдуны начали ошибаться, правда, иногда: магия стала в гораздо большей степени, чем прежде, зависеть от случайностей, и простым людям стало больше везти, что было уж совсем поразительно для Санктуария; но, и это хуже всего, колдуны, творящие великую магию, обнаружили, что их могущество ограничено, и стали порой получать неоднозначные результаты.
Поэтому Ишад решила отстраниться от великих начинаний, до того момента, как позволила уговорить себя принять участие в изгнании нечистой силы, позволила сделать это колдуну Рэндалу, чью личную и профессиональную честность считала безупречной — редчайшее качество, волшебник почти без личных интересов.
Теперь же ее одолевало настойчивое чувство беспокойства, усугубленное пережитым ощущением того, что ее швырнуло из одного конца Санктуария в другой, ссадинами и ноющей головой. Дурак! Попробовать такую вещь, такое проклятое, слепое, мучительное заклятие, которое было возможно только некоторое время и только в высших Сферах Могущества Санктуария.
Головная боль — легкая плата. Все могло быть гораздо хуже.
Было бы гораздо хуже, например, если бы она оставила у себя Стратона, позволила слепоте и отвратительной недальновидности вернуть его к себе в постель, вскрыть старую рану.
А утром увидеть его мертвым, как пьяного дурака в переулке Санктуария, который к этому времени уже не был больше ни пьяным, ни дураком и не имел больше возможности увидеть рассвет.
***— Вдвоем мы уйти не можем, — заключил Стилчо.