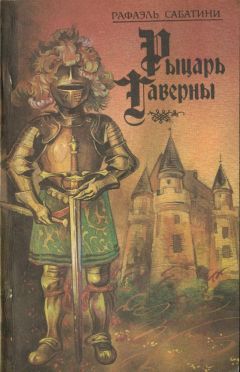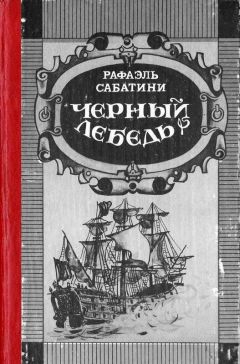Александр Сальников - Революция 2. Начало
— Я вам верю, Сергей Петрович, — честно признался Керенский. — Верю и помогу. Есть одно надежное место, — хотел продолжить он, но Рождественский поднялся со ступенек и распахнул свои медвежьи объятия.
От треснувших ребер Александра Федоровича уберег филер. Он коротко всхлипнул и заворочался на полу.
Рождественский, будто охотничий пес, замер. На лице его мелькнула нехорошая усмешка. Он резко развернулся к шпику, но Керенский ухватил его за рукав:
— Не стоит!
— Он нас видел, — возразил Рождественский.
Керенский заслонил собой филера.
— Есть и другой способ. — Александр Федорович сунул руку в карман и присел перед шпиком на корточки. — Тебя как звать-то, голубчик?
— Ми-митрофаном, — напуганно промямлил тот.
— Вот что, Митрофан, — ласково продолжал Керенский. — Дуй-ка на улицу да поймай нам извозчика. Ехать будем к Большой Северной гостинице.
Филер мелко закивал.
— И вот еще что, Митрофан. Ни меня, ни вот этого милого господина, — Керенский выдержал паузу, — ты сегодня не видел. Ясно?
— Так точно! — кряхтя и покашливая, шпик поднялся и заковылял вниз по лестнице.
Через три минуты у парадного встал экипаж.
— Как вы это сделали? — изумленно прошептал Рождественский.
Керенский глянул на него сияющими разноцветными глазами. Один лучился зеленью, другой — синевой.
— Сила убеждения, капитан, — хохотнул он. — Только и всего!
— Я подполковник, — прошептал Рождественский.
— Это больше не имеет никакого значения. — Керенский махнул рукой и взял Рождественского под локоть. — Едемте, Сергей Петрович. У нас впереди еще куча дел. Вам нужно основательно выспаться.
Глава восьмая. В лабиринтах отчаяния
Российская империя, Царское Село, Петроград, 21 декабря 1916 года
Государю не спалось. Пропитанную потом перину словно набили холодным песком. Тяжелое одеяло давило на грудь, мешало дышать. Царя лихорадило. Ни выпитый графин коньяку, ни пылающий камин не помогали согреться.
Неведомая болезнь сотрясала дрожью тело, выкручивала мышцы. Отдаваясь ноющей, свербящей болью в суставах, леденила руки и ноги. Николай скрипел зубами и метался по постели. Помимо телесной хвори, внутри государя бесновался страх. Постепенно перерастая в животный ужас, он полностью подчинял разум, доводя до духовного паралича.
— Господи, укрепи и помилуй, — сухими губами шептал в пустоту император. — Господи, дай мне сил и огради меня. Боже!
Отчаянная молитва спасала на краткие мгновения. Виски государя пульсировали, сердце отдавалось в них пудовыми молотами. Сабельный шрам, полученный когда-то в Японии, горел, словно свежая рана. Под закрытыми веками расцветали вспышками алые бутоны, резали глаза.
Но страшнее изнуряющей боли терзали Николая мысли. Раз за разом они возвращались, подобно волнам клокочущего прибоя. Приносили с собой невыносимые, сбивающие дыхание приступы паники.
Четыре дня назад его потревожили перед сном. Бледный как мел ординарец протянул телеграмму от Аликс. Не поверив своим глазам, Николай провел долгие минуты у телефона, слушая истеричные всхлипы супруги. Уверенным голосом он утешал ее как мог. Горячился, обещал тотчас приказать разломать весь лед от Петрограда до Кронштадта. Поднять на ноги всех водолазов.
Потом он истово, горячо молился. Он просил Господа за бедного Григория. Просил ниспослать тому что угодно, только не смерти. Но Господь не услышал.
Водолазы нашли тело примерзшим ко льду Малой Невки.
Новость подломила Николая. Внутри образовалось тянущая, одинокая пустота. Государь никак не мог оправиться. Даже имена убийц не вызвали у него ярости — одну только горечь.
Император вернулся в Царское.
На перроне его встретили жена и дочери. Уже в машине Николай рассмотрел припухшие веки, красные глаза, россыпь точек лопнувших капилляров на коже под ними. Аликс молча протянула ему сложенный вдвое листок.
«Дух Григория Ефимовича Распутина-Новых из села Покровского» начиналось письмо, но Николай сразу узнал его почерк. Борясь с подступающим к горлу комом, он продолжил читать:
«Я пишу и оставляю это письмо в Петербурге. Я предчувствую, что еще до первого января я уйду из жизни… Если меня убьют нанятые убийцы, русские крестьяне, мои братья, то тебе, русский царь, некого опасаться. Оставайся на твоем троне и царствуй. И ты, русский царь, не беспокойся о своих детях. Они еще сотни лет будут править Россией. Если же меня убьют бояре и дворяне и они прольют мою кровь, то их руки останутся замаранными моей кровью, и двадцать пять лет они не смогут отмыть свои руки. Они оставят Россию. Братья восстанут против братьев и будут убивать друг друга…»
— Я погиб, — вырвалось тогда у государя.
— Я погиб, — шептал он, лязгая сейчас зубами под пуховым одеялом.
Тень несчастного Александра, сербского короля, снова нависла над ним. Застреленный вместе с женой бунтовщиками, он был выброшен обезумевшей толпой через окно на улицу. На обозрение и поругание.
Мертвый Александр забирался Николаю под веки и грозил почерневшим пальцем.
— Господи, помоги мне! — шептал император, распахивая глаза и обливаясь потом.
Сквозь треск горящих поленьев ему чудилось чье-то дыхание. Свет лампы на прикроватной тумбе очерчивал вокруг Николая охраняющий круг, но за его пределами государю померещилось вдруг чужое присутствие. Он подобрался, прижимая затылок к спинке кровати.
— Укрепи и помилуй, — перекрестился Николай и с надеждой покосился на спасительную лампу. Взгляд его упал на предсмертное письмо Распутина, которое белело в ее свете на полированном дереве прощальным приветом из прошлого. Прощальным подарком.
А внутри тумбы, в нижнем ее правом углу хранился еще один.
Кот.
Пугающий и ненавистный.
«Русской земли царь, когда ты услышишь звон колоколов, сообщающий тебе о смерти Григория, то знай: если убийство совершили твои родственники, то ни один из твоей семьи, то есть детей и родных, не проживет дольше двух лет. Их убьет русский народ…»
Стон прорвался сквозь сжатые зубы. Меж висков резануло белой болью. Николай на секунду зажмурился и вновь оказался в помещении с низким потолком. В комнате, оклеенной желтыми обоями в полоску.
В той самой, куда однажды отправила Николая серебристая фигурка и раз за разом возвращала, несмотря на все его старания. В комнате, наполненной звуками выстрелов и стонами умирающих детей. Глухими ударами прикладов и омерзительным звуком, с каким штык проникает в еще теплую плоть.