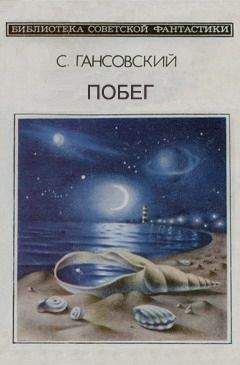Побег из Невериона. Возвращение в Неверион - Дилэни Сэмюэл Р.
Модифицировать возраст, пол, класс, чтобы уж окончательно затоптать их?
Когда говоришь что бы то ни было в такой ситуации, пресса мигом припишет тебе то, что ты вовсе не говорил (последний заголовок: УГАДАЙТЕ, ОТЧЕГО ЗАБОЛЕЛИ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК?).
Я мог бы написать краткий очерк по любому из вышеприведенных акронимов – как, полагаю, любой нью-йоркский гей, если он только не технофоб.
Теория ЦМВ пока что имеет смысл, но я возлагаю большие надежды на две части населения (группу риска, относительно небольшую, и относительно большую иммунную) – хотя бы чтоб с ума не сойти; интересуюсь также исследованиями по ЛАВ (как и все в этом месяце, наряду со «слишком хорошим, чтобы быть правдой» лечения саркомы Капоши дапсоном согласно теории кислотоустойчивых микобактерий); еще мы ждем доклада Атлантского Центра по контролю заболеваний совместно с французским Институтом Пастера, официально подтвердившего ЛАВ как агент – все что угодно, лишь бы очнуться наконец от этого кошмарного периода нашей истории. С тем же нетерпением мы ждали результатов по АЧС полгода назад.
Как гласит старое китайское проклятье, «чтоб ты жил в интересные времена».
Из-за таких вот периодов, к слову, будущие поколения и перестанут читать великие книги вроде «Десяти дней, которые потрясли мир» Джона Рида – им будет неинтересно.
Но чтобы понять, как нам жилось тогда, нужно хоть немного вникнуть в эти наши акронимы и узнать о нашей одержимости ими, как возможными ключами к тому, чтобы жить и умирать по-людски.
7.4. Убежать не так-то легко (думает Норема). В молодости мир казался мне чередой бурных морей, и я переплывала одно за другим как со страхом, так и с радостным нетерпением. Теперь он превратился в череду невозделанных полей, через которые я бреду – города и леса преодолевать одинаково трудно.
Кто-то пробежал по улице с криком, стуча в барабан. Они ведут себя так, будто наконец-то поймали своего Освободителя, помешали ему бежать, водворили в клетку, как дикого зверя. Достанет ли у него сил продолжать свое дело и при дворе, добиться, чтобы его услышали через гранитные стены? Сможет ли он разогнать туман этикета, традиций, обычаев, порвать самую ткань власти, которую отныне разделит? Сможет ли сделать хоть что-то в стенах цитадели, сковывающей любые движения?
Норема оглядела свою сумрачную комнату, деревянные фигуры у очага, расписные кувшины и недавние пергаменты с набросками сказок на столе – старые записи копились в углу.
Сколько подпорок для памяти! Тот глазурованный кувшинчик подарила мне милая старушка в Кахеше. Откроешь его в только что убранной комнате, и он очистит застояшийся воздух. Открыв его три месяца назад, я вспомнила ту старушку, костяные кольца на ее перепачканных землей пальцах. «Игру времени и боли» я записывала, сидя на скалах у моря: «В солнечную гавань вошли корабли со стройными мачтами… дети в темных кустах повторяли волшебные стихи… утром королева приказала юной рабыне одеться знатной девицей…» Вот он, этот пергамент, на столе. Что я вспомнила, взглянув на него этим утром? Что помню из того, что мне вспомнилось? Может быть, лучше спросить так: кто подарил мне эти слова? Я сама? Море? Скалы, где я сидела? Время? Или безымянный бог пишущих, столь скупо и столь щедро благословляющий тех, кто преобразует звуки песен в безмолвное слово?
В моих путешествиях на меня дважды, приняв за контрабандистку, нападали разбойники. Оба раза мне посчастливилось уйти с миром. Убедившись, что в моей повозке нет ничего, кроме покрытых знаками кож, они отпускали меня, пригрозив для порядка. В первый раз я продолжала путь через лес, преисполнившись благодарности; во второй, полгода спустя, покрытый шрамами злодей понял, что на кожах что-то написано, и стал швырять их наземь, рвать, комкать. Он загубил много пергаментов, а я сдерживалась и не просила его перестать – иначе он смекнул бы, как они много для меня значат, и причинил еще больше вреда. Продолжая свой путь, я ликовала гораздо меньше и с большей осторожностью выбирала дорогу.
Тогда я записала вот на этом пергаменте следующее, надеясь использовать это в одном из сказаний: «В растянутую мочку его уха был воткнут колышек». Много раз перечитывала эту фразу, переписывала так и этак. Оставлять ли «растянутую»? Я помню, как нависала надо мной, сбитой с ног, эта мочка. Эпитет «растянутая» растягивает фразу, повторяет испытанное мной – так две танцовщицы совершают одинаковые движения в танце. Эта одинаковость говорит о том, что их танец отрепетирован. Все мы видели резные колышки в ушах у таких мужчин; может быть, употребить слово против моего опыта – так танцовщица отступает от своего отражения в зеркале? И убрать «растянутую»? И то и другое годится, но что же выбрать? Усиление или нечто обратное? Не думаю, чтобы Ферон столько раз распускал и ткал заново один-единственный ряд.
Надо подумать о чем-то другом кроме его страданий.
Когда он уже заболел, я как-то просидела у него часа три, пила чай и смотрела, как он работает. Он говорит, что чувствует себя человеком только когда может ткать. Я много раз видела, как ткут женщины, но именно его медленный труд навел меня на ту мысль. Пока его челноки сновали, меняя цвета, я подумала: вот что я делаю, сочиняя сказки! Бог – покровитель ткачей и плетельщиков неводов должен покровительствовать также и сказителям. Наше искусство сильно отличаются от речей, какими простые парни возвеличивают себя в глазах своих девушек, чередуя правду и ложь, приплетая слышанное от других и выдуманное самими.
На улице поют и смеются. В моей молодости острова тоже посетила чума – не стану повторять, чего я тогда лишилась. Они веселятся лишь потому, что у них пока болеют только мужчины – хотя я слышала и другое, – притом, как все думают, мужчины вроде Ферона.
Но каково слышать этот смех умирающим, будь то мужчины или женщины?
В моем детстве на острове, что тогда был для меня всем миром, жили дикие племена. На их праздниках, называемых навенами, лучшие охотники и старшие жены рядились нищими, а нищим подчинялись, будто вождям. Женщины рядились мужчинами, мужчины женщинами, дети распоряжались родителями. Целебный обычай, сказка, сотворенная самой жизнью и содержащая в себе множество уроков на будущее. Таков и карнавал в Колхари. Иные назвали бы его чудовищным, но только не я. Я буду гулять и петь вместе со всеми.
Ибо в Колхари прибыл Освободитель…
Но при мысли о тех, кто отлучен от этого праздника, мне хочется бежать из этого города, из этой страны, готовой думать о чем угодно кроме своих страданий. Лишь последствия такого бегства останавливают меня. Чем отправляться в изгнание, не сочинить ли мне сказку? Здесь и сейчас, в этой комнате, в этом переулке? Соткать на словесном станке историю о небывалом побеге, стройную, как песню, радостную, как лето, – пока она не запутается неизлечимо и не будет уничтожена тем же, что ее породило: злые разбойники раздерут все пергаменты в повозке.
Славный получится праздник. Темный карнавал.
7.5. Официальная реакция на чуму в Европе описана Дефо в «Дневнике чумного года» (1722): «Правительство… устраивало публичные молитвы, назначало дни поста и покаяния, [поощряло видных членов общества] публично исповедоваться в грехах и молить Бога отвратить страшную кару, нависшую над нашими головами… Все пьесы, поставленные по примеру французского двора, были запрещены; игорные, танцевальные и музыкальные залы, сильно расплодившиеся и оказывавшие дурное влияние на нравы, были закрыты; шуты, кукольники, канатные плясуны лишились заработков; людей теперь занимало совсем другое, и даже на лица простолюдинов легла тень печали и ужаса. Все ежечасно видели смерть и помышляли о могиле, а не о увеселениях».
Последние строки, возможно, представляют собой официальный отклик на предписание властей: ведь если увеселительные заведения и комедианты в самом деле «лишились заработков», зачем же «запрещать» их и «закрывать»? Даже в схеме Арто при запрещении «государственного» театра вместо него спонтанно возникали другие, символизирующие для автора рождение подлинного зрелищного искусства.

![Кристофер Сташефф - Чародеи [Побег. Чародей поневоле. Возвращение короля Кобольда]](/uploads/posts/books/53784/53784.jpg)