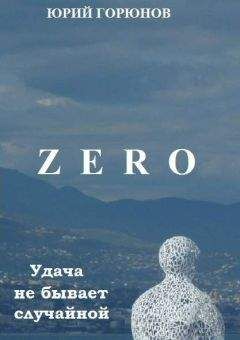Елена Хаецкая - Добрые люди и злой пес
– Они делали много дивного и поразили нас в самое сердце, ибо прежде нам не доводилось видеть ничего подобного. Один из них взял несколько горстей муки и рассыпал по земле тонким слоем, а после ходил по ней ногами и не оставил никаких следов. Это потому, что он ступал по воздуху, а к земле не прикасался. И многие из нас были свидетелями этого чуда и потому поверили всем словам этого человека. Ведь если бы он не был свят и прав во всем, что утверждал, то ему не удалось бы совершить ничего подобного. А другой развел огонь и много раз протягивал руки сквозь пламя, и пламя не смело повредить его плоти.
Доминик слушал, и по его лицу невозможно было понять, какое впечатление производит на него рассказ Пейре.
А сельчане раздухарились, вспоминая тот день, один из самых ярких в их размеренной жизни, состоящей по преимуществу из тоскливых будней. Нечасто выпадали им такие праздники. И спросили они Доминика:
– А ты можешь ли сделать что-нибудь подобное, чтобы мы поверили тебе?
– Нет, – сказал Доминик. – Ничего подобного я сделать не могу. И потому если вы хотите спасти себя и готовы последовать моему доброму совету, вам придется поверить мне на слово.
Он порылся в своей торбе, которую носил через плечо, и вытащил лоскут пергамента, где были написаны какие-то слова.
– Есть ли среди вас обученные грамоте? – спросил он, впрочем, без особенной надежды.
Один выискался – большая редкость в селении. Доминик подозвал его к себе и передал ему лоскут. Грамотей повертел пергамент в пальцах, пытаясь разобрать слова. Не шибко-то он был грамотный и потому через минуту спросил, на Доминика щурясь:
– А что здесь написано?
– Символ веры, – сказал Доминик. – Читайте его каждый день и спасетесь, а заблуждения свои оставьте.
И – все. Никаких чудес, никаких доказательств. И за спиной – грозная тень Монфора, который языка провансальского не знает, художества трубадурского не ценит. Чужак, северянин, варвар, франк. Мужланам, понятное дело, трубадурское художество было ни к чему, но захватчиков не любит никто, даже мужланы.
Комок липкой грязи полетел в Доминика, шлепнулся у него ног, забрызгав подол.
– Ну вот что, – сказали ему для ясности, – убирайся, ты. Убирайся к своему хозяину, грязный пес.
Доминик смотрел на толпу внимательным взглядом и не трогался с места. Пейре стоял ближе всех к нему – красный от гнева и смущения. Доминик встретился с ним глазами, и Пейре вспыхнул.
– Уходи, – сказал он. – Уходи отсюда, монах.
Доминик пробормотал что-то еле слышно, сошел с порога церковки и ступил на дорогу. На каменистую дорогу, по которой пришел сюда и которая уводила его дальше, прочь от Монферье, на северо-восток, к Тулузе.
Еще несколько комьев земли полетели ему вслед, один размазался по спине. Доминик даже не вздрогнул.
Пейре обтер об одежду вспотевшие ладони и сказал, ни к кому в особенности не обращаясь:
– Ну вот и все, избавились.
Грамотей сунул ему пергамент с символом веры, оставленный Домиником.
– На, сожги эту дрянь.
Пейре отшатнулся, как от заразы.
– Почему я?
– А кто же? – удивился грамотей. – Ведь это твоя жена привела сюда этого попа. А ты принял его под свой кров и делил с ним хлеб.
Пейре выругался, поклявшись про себя как следует проучить Мартону плеткой, чтобы впредь получше смотрела, кого привечает. Брезгливо взял лоскут и пошел домой. Мартона с покаянным видом потащилась за ним следом – знает баба, чем для нее вся эта история сейчас обернется. Вот только до дома дойдут!..
Но дома Пейре расхотелось Мартону бить. Сказал только:
– Замарались мы с тобой, жена, по самые уши. Перед всей деревней опозорились.
У Мартоны слезы показались, впору взвыть.
– Так кто же знал?.. Ведь не бывает таких католиков, чтобы от наших совершенных не отличить.
– А крест на шее у него?
– Не напоказ он его носил, под одежду крест убежал, я и не видела…
И всхлипнула.
Поглядел на нее Пейре, поглядел – скучно ему сделалось, тягомотно. Что ж теперь – навек этот проклятый монах между ними черной тенью повиснет? Ошиблась баба – так на то она и дура, чтобы ошибаться. Положено ей. И потому буркнул Пейре:
– Брось скорее в очаг эту пакость да и забудем обо всем.
Мартона огонь развела пожарче, дров подложила, а когда разгорелось, сунула в самое пекло пергамент, исписанный пришлецом. Сама же отвернулась и, выбросив неприятную историю из мыслей, взялась стряпать.
И снова был в их доме мир и покой. Потрескивали дрова, булькала на огне похлебка, пахло хлебом. Заваливаясь спать и обхватив Мартону – теплую, толстую, с пушистыми волосами – обеими руками, шепнул ей Пейре:
– А пса-то мы прогнали… хорошо как.
И впрямь – хорошо было. Давно уже скрылся за поворотом дороги пес Доминик, в старом рубище, с пятнами грязи по подолу и между лопаток, и горы сомкнулись за его спиной, так что навсегда исчез он для Монферье. А после настал новый день, и ночь легла между Домиником и Пейре с Мартоной, и ничто больше не тревожило размеренного течения их жизни.
Встав, как обычно, еще затемно, Мартона на ощупь нашла котел, бросила туда замоченные с вечера бобы, прошлепала босиком к очагу. Осторожно разворошила угли, сунула туда, где еще тлело, кусок коры, поправила, чтобы лучше занялось. И вдруг нащупала что-то странное. Холодное, будто не в очаге лежало. Гладкое. Подцепила двумя пальцами, вытащила, поднесла к открытой двери, чтобы разглядеть получше.
Тем временем солнце поднялось еще выше и неожиданно залило торжествующим утренним светом всю долину, заставив засверкать каждую каплю росы на листьях и траве.
– Пейре, Пейре! – закричала Мартона.
Ее муж сонно заворочался в темной духоте дома.
– Что блажишь? – недовольно спросил он.
– Ох, муж… – только и вымолвила Мартона, оседая на пороге и выронив в подол то, что нашла в очаге.
Это был клочок пергамента, на котором был написан символ веры. Он не сгорел.